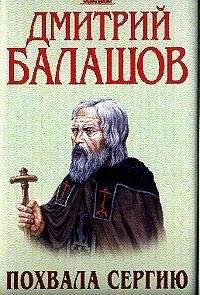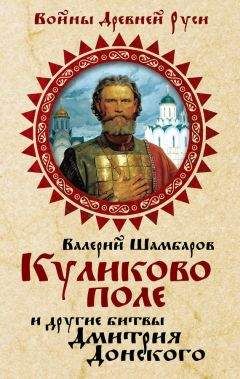Наконец Стефан разгибается для передыху – сухощавый и высокий, в отца, просторный в плечах, – легко вгоняет секиру в бревно, обтирает чело рукавом и слегка кивает Науму, который тотчас, соскочив с подмостий, проворно забирается в тень за грудою окоренных бревен. Сам Стефан медлит, оглядывая вприщур поставленный на стояки сруб, и роняет сквозь зубы не то брату, не то самому себе:
– Единственная дорога – монастырь! Не прибежище в старости, не покой, а подвиг! Да, да, подвиг!
Варфоломей вперяет взор в лицо брата – строгое, загорелое докрасна, резкое и прямое, словно обрубленное топором ото лба к подбородку, в его углубленные, огневые, обведенные тенью глаза.
– Фаворский свет? – переспрашивает с надеждою, – как на Афоне?! – (Про Фаворский свет он может говорить и выслушивать бесконечно.) – Стефан! – спрашивает он робко. – Ты ведь мне так и не дотолковал того, как надобно деять, чего там у их… мнихов афонских?
– Чего тут уведашь… В лесе живем! – рассеянно отвечает Стефан и присовокупляет досадливо: – О чем тут, в Радонеже, можно узнать!
– Научи меня греческому! – застенчиво просит отрок.
Стефан остро взглядывает на брата, отводит взор и покачивает головой:
– Недосуг!.. Трудно… – Он опять было берется за секиру, подкидывает ее в руке, что-то поправляет легкими скупыми ударами носка.
Солнце встает все выше и уже приметно истекает из середки своей тяжелою тьмой. Вот край высокого облака легко коснулся солнечного круга, пригасив и сузив жгучие лучи. В густом настое запахов смолы, пыли, навоза почуялось легчайшее, чуть заметное шевеление воздуха. Хоть бы смочило дождем!
– Благо есть! – громко проговаривает Стефан, втыкая в ствол блеснувшее лезвие секиры. – Благо есть, – повторяет он, – что все так окончило! Роскошь, палаты, вершники впереди и назади, седла под бирюзой, серебряные рукомои… На кони едва ли не в отхожее место!
Варфоломей слушает раскрыв рот, забыв в руке недвижный топор. Не сразу уразумел, что Стефан бает про ихнюю прежнюю жисть.
– Роскошь не надобе человеку! – режет Стефан, ни к кому не обращаясь, горячечным взором следя пустоту перед собой. Варфоломей даже дыхание сдерживает, мурашами по коже поняв, что брат намерил сказать сейчас что-то самонужнейшее, о чем думал давно и задолго.
– Господь! В поте лица! – Стефана распирает изнутри, и слова выпрыгивают оборванные, словно обугленные, без начала и связи. – А мы все силы – опасти себя от тяжести! Облегчить плеча, от поту опастись! На том камени зиждем, что и сам тленен и временен! Алчем тех сокровищ, что червь точит и тать крадет! И на сем, тленном, задумали строить вечное! Московляне правы, что отобрали у нас серебро!
– Срам, что, пока не свалит на тебя беда, сами не можем! Слабы духом! Надо самим! Нужно величие жертвы! Да, в монахи! – продолжал он яростно, с жутким блеском в глазах, – взять самому на себя вериги и тяготу большую и тем освободить дух! От роскоши, от гордости, от похвал, славы – ото всего! Тогда! Узришь свет Фаворский!
И сыроядцы нынь терзают Русь из-за нас! Нам, нам, русичам, надобно сплотить себя духовно! Чел ты слова Серапионовы? Мы, днесь, «в посмех и поношение стали народам, сущим окрест!» Единение! А затем – дух святой возжечь во всех нас! Вот путь! Для сего – и прежде – очистить себя от скверны стяжательской! Дьявол взыскует плоть, Господь – дух! И это должны мы! Бояре! Мужики – они еще не вкусили благ, а мы, отравленные ими, должны сами себя изменить! Хватит сил духовно, – сумеем поднять всю Русь! Все прочее – тлен. Слова не нужны. Нужны дела! Подвиг! На Руси пропала вера в подвиги!
Когда поднялась Тверь – громили Шевкала, ты еще мал был, – знаешь, я шатался по торгу. Собралось вече. И все знали, что надо помочь! И никто, понимаешь, никто! Первым чтобы. Как старшина, мол, бояре как? Как набольшие меня? И – предали! На поток и разор ордынский предали тверичей! Я тогда уразумел, понял: дух! Духом слабы! Не силою! А в училище нашем, в Ростове, споры о тонкостях богословских, что там сказал Несторий… Что бы то ни, а – сказал! А мы – повторяем только!
И Дмитрий Грозные Очи! Бесполезная смерть в Орде. Как я его понимал тогда! Преклонялся! Героем считал! Подвижником… А быть может, и он… вовсе… от бессилия…
Подвиг! Идти вопреки! Знаешь, ежели бы вдруг разрушились деревни и словно от мора некоего народ побежал в города, стеснился в стенах, забросив нивы и пажити, я бы сказал тогда: паши землю! Но не опускайся долу, не теряй высоты духовной! Знай, что и там, на пашне, творишь ты не живота ради, а ради духа животворящего твоего!
Но народ жив! Он как раз в деревнях, на земле, вот здесь, окрест нас. Нужен подвиг духовный, надобен монашеский труд! Совокупление в себе Духа Божьего! Фаворский свет! Это огонь, от коего возгорит новое величие Руси!
Стефан замолк как отрезал. Варфоломей глядел на брата не шевелясь. Путь был означен. Им обоим. И – он знал это – другого пути не могло быть.
– Стефан! – спросил он после долгого молчания, – что нам… что мне, – поправился он, зарозовев, – надо делать теперь? Укреплять свою плоть для подвига?
– Человек все может и так… – устало возразил Стефан. – В яме, в училище, в голой степи, в плену ордынском годами живут люди! Выдержать можно много… любому… когда нет иного пути! Сильна плоть! Важно самого себя подвигнуть на отречение и труд, важно… да ты все знаешь и сам! – Стефан вздохнул, вновь берясь за рукоять секиры. – Наума покличь!
Варфоломей единый незримый миг медлит, обернув к брату пронзительный взор, и прежде, чем соскочить с подмостий, выговаривает серьезно:
– Я с тобою, Стефан! Что бы ни сталося впредь, я с тобой!
Истекает Филипьев пост. Близится Рождество. Земля плотно укутана в толстую белую шубу. Метет. Серебряные струи со звоном и шорохом обтекают углы клетей. Весь Радонеж в белой мгле. Кони под навесом жердевой стаи сбились в кучу, прячась от ветра, греют друг друга. Темной, убеленной ветром громадою высится терем Кирилла, обширный, в две связи, поставленный на высокий подклет. Третьелетошние бревна уже посерели и потемнели от вьюжных ветров и косых дождей. Снег, набитый ветром в углубленья пазов, подчеркнул и выкруглил белою прорисью каждое бревно. Челядня, поварня, амбары и клеть прячутся и тонут в дыму мятели. Едва-едва проглядывают соседние избы и огорожи. Редкий огонь мелькнет в намороженном слюдяном оконце, редко откроется дверь. Кому охота в такое непогодье высовывать нос из дому?
Вся семья Кирилла в сборе, кроме Варфоломея. Он из утра уехал за сеном. В первой, проходной, горнице терема, где разместились четыре семьи старшей дружины Кирилловой, горит одинокий светец. Бабы прядут, судача о своем. Дети залезли на полати, сопя, возятся друг с другом в темноте. Яков с Даньшею лениво передвигают шахматы по доске. Разговор о том о сем, но все больше как-то задевает Терентия Ртища – наместнику надобны люди, и многие ростовчане уже заложились за боярина, даже один из бывших Кирилловых холопов подался на сытные московские хлеба.
– Нашему бы господину от московитов какую волостишку на прокорм… – пряча глаза, роняет Даньша. Рука его замирает в нерешительности, наконец двигает по доске грубую кленовую фигуру. Яков, сощурясь, переставляет лодью, бормочет, словно бы про себя:
– Прошло время!
Его самого, отай, перезывали в дружину Терентия, о чем Даньше пока ведать не надлежит. «А ни лысого беса нам не дадут!» – думает он сокрушенно, пока еще по привычке не отделяя себя от господина своего.
– Ни лысого беса не дадут, устарел наш боярин! – произносит он почти вслух, забирая лодьей супротивничьего коня.
Во второй горнице, за рубленою стеною, за закрытою дверью – Кириллова семья. Потолок в саже и здесь: топят по-черному. Но ниже досок – отсыпок стены и лавки выскоблены дожелта, и в двух стоянцах теплются высокие свечи.
Мария, как по всякой день вечером, шьет, привычно и споро орудуя иглой. Кирилл, примостясь рядом, у той же свечи, щурясь и отводя книгу далеко от себя, перечитывает жития старцев египетских. (К старости стали сдавать глаза: вдаль хорошо видят по-прежнему, а вблизи все расплывается и двоится.) Стефан у второго стоянца тоже погружен в чтение – изучает греческий синаксарий. Петр плетет силки на боровую птицу. Старая нянька сучит льняную куделю, мотает готовую нить на веретено. Голова у нее слегка трясется. Тихо. Слышно, как, огорая, потрескивают свечи в стоянцах. Мария, круто склонив чело, замирает с иглою в руке, слушает жалобный голос ветра за стеною.
– Должно бы уж Олфоромею быть! С кем уехали-то?
– С Онькой! – отрывисто отвечает Стефан. – Дороги замело, почитай, совсем…
– Вьюжная зима, – подает голос Ульяния, – коням истомно, поди!
– Доедут! – заключает Стефан и вновь утыкает взор в узорные строки греческого письма. Мария, с некоторою тревогою поглядев на старшего сына, вздыхает, переведя речь на иное: