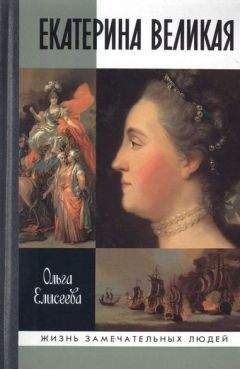Бретейль заколебался. Он не хотел, чтобы его впутывали в заговор, и заявил, что Людовик XV не вмешивается во внутренние дела чужих государств. Посланник сказал, что ему необходимо получить разрешение короля на выдачу такой крупной суммы, но для этого потребуется документ с просьбой о предоставлении денег. Пусть он будет ни к чему не обязывающим, но написанным рукой императрицы. Например: «Я поручила подателю этой записки пожелать вам счастливого пути и попросить вас сделать несколько небольших закупок, которые прошу вас доставить мне как можно скорее»330.
Если приведенный рассказ и не может быть проверен в деталях, то сам факт просьбы о помощи и отказ в ней подтверждаются упреками, которые герцог Шуазель позднее сделал Бретейлю за отъезд из Петербурга и неучастие в тамошних делах. Поведи себя посланник иначе – и влияние Парижа на русский кабинет было бы возвращено.
Но молодой дипломат испугался. 15 июня он покинул Петербург, а накануне нанес официальный визит Екатерине, чтобы засвидетельствовать свое почтение. На глазах у приближенных императрица не могла говорить о волновавшем ее предмете, тем не менее она передала Бретейлю письмо для Станислава Понятовского, так как посланник ехал через Варшаву. После возвращения из дворца Бретель записал: «Она мужественна душой и разумом, она любима и уважаема всеми в такой же степени, как царь ненавидим и презираем»331.
Француз, как никто другой из иностранных дипломатов, сознавал приближение мятежа. Тем не менее он посчитал невозможным связывать себя обязательствами с Екатериной. Значит, Бретейль не верил в успех переворота и, зная о готовящемся, боялся оставаться в России. Его близкие контакты с императрицей после раскрытия заговора показались бы подозрительными.
Он переложил дела на Беранже, не пояснив тому суть договоренности с Одаром. Когда доверенное лицо императрицы явилось, секретарь посольства был удивлен визитом. Но еще больше он поразился, прочитав собственноручную записку Екатерины: «Покупка, которую мы хотели сделать, будет, несомненно, сделана, но гораздо дешевле; нет более надобности в других деньгах»332. Это был отказ от сотрудничества. В отличие от посланника императрица не допускала сомнения в успехе.
«ХИТРЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Остановимся на личности Одара, так как этого уроженца Пьемонта, любят отождествлять с графом Сен-Жерменом или, в лучшем случае, заявлять, что его роль в перевороте неясна. Он родился около 1719 г. и приехал в Россию в конце царствования Елизаветы Петровны. По протекции канцлера Воронцова был определен в чине надворного советника в Коммерц-коллегию и в 1761 г. подал на рассмотрение два мемуара: один с обзором российской коммерции в целом, другой – о правилах конфискации товаров в случае банкротства. Эти сочинения Одар представил племяннице канцлера, Дашковой, о чем свидетельствует сопроводительное письмо, полное самых лестных выражений в адрес княгини333.
Рюльер осмелился называть Одара наперсником Екатерины Романовны, склонившим молодую женщину отдаться Панину, чтобы вовлечь того в заговор. «Тщетно княгиня, в которую он (Панин. – О. Е.) был страстно влюблен, расставляла ему свои сети. Она подогревала его страсть, но была непоколебима, полагая среди прочих причин тесную связь, которую имела с ним мать ее, что она была дочь этого любовника. Пьемонтец по имени Одар, хранитель их тайны, убедил сию женщину отложить всякое сомнение и даже пожертвовать [будущим] ребенком»334.
Этот пассаж вызвал волну негодования Дашковой. «В числе иностранцев, прибывших в Россию, – писала она, – был один пьемонтец, по имени Одар, которому покровительствовал канцлер, доставивший ему место советника Коммерц-коллегии. Я познакомилась с ним; он был образованный, тонкий, хитрый и живой человек уже не первой молодости. Вскоре он нашел, что занимаемое им место ему не подходило, так как он не знал ни продуктов, ни водяных сообщений и т. д., и попросил меня похлопотать, чтобы императрица взяла его в свой штат; я поговорила о нем с государыней, совсем не знавшей его, предполагая, что она может сделать его своим секретарем, но она ответила мне, что переписывается только с родными, так что ей секретарь не нужен… Мне, однако, удалось уговорить императрицу взять его к себе на службу и поручить ему улучшить земли, которые Петр III только что дал ей в удел, и устроить на них фабрики… Он не был близким мне человеком и не имел на меня никакого влияния; я его даже мало видела, а в последние три недели перед переворотом, когда все налаживалось для этого счастливого события, я его не видела ни разу. Я просто хотела дать ему кусок хлеба и приятное положение, но советов его не спрашивала, и он, конечно, имел бы еще меньше успеха у меня, если бы посмел уговаривать меня отдаться моему дяде, графу Панину»335.
Рассказ княгини примечателен уже потому, что каждая его строка вызывает вопрос и нуждается в комментарии. Неясно, почему в опасный момент подготовки заговора племянница канцлера взялась хлопотать перед Екатериной за едва знакомого человека. Разве что ее убедил дядя, покровительствовавший советнику. Воронцов хотел пристроить Одара при императрице. Лучше всего в качестве секретаря, что и озвучила племянница. Екатерина отнеслась к идее настороженно. Ей не нужен был соглядатай, при случае способный проследить контакты госпожи и порыться в ее бумагах. Поэтому она отклонила просьбу. Но совсем не исполнить желание Дашковой значило обидеть подругу. Надо знать настойчивость на грани бестактности, которую проявляла Екатерина Романовна, когда бралась кого-нибудь пристраивать. В записках императрицы, обращенных к Дашковой, имя Одара вскользь упомянуто трижды, и всякий раз Екатерина ссылалась на какую-нибудь помеху, препятствовавшую ей заняться делом пьемонтца, пока наконец не сдалась: «С голоду он при мне не умрет». В мае 1762 г. наша героиня приняла протеже подруги управляющим одного из имений.
Прекрасно чувствовавший политическую конъюнктуру Одар быстро стал из человека канцлера человеком Екатерины. Такие метаморфозы случались в окружении императрицы. Характеристики нравственных качеств Одара совпадают у Дашковой и у Рюльера. Француз приписывал ему такие слова: «Я родился бедным; видя, что ничто так не уважается в свете, как деньги, я хочу их иметь, сего же вечера я готов для них зажечь дворец; с деньгами я уеду в свое отечество и буду такой же честный человек, как и другой»336. С такими взглядами «тонкий, хитрый, живой человек», видимо, догадался, что служить Екатерине выгоднее. Позднее Бретейль утверждал, что заслуги Одара «перед императрицей были велики, но сам он – жадный и наглый проходимец»337.
С.М. Соловьев считал, что наша героиня использовала Одара для тайных сношений со своими сторонниками, как когда-то, в 1758 г., использовала итальянского «бриллиантщика» Бернарди, передававшего ее записки Бестужеву и Понятовскому338.
Княгиня утверждала, что не виделась с Одаром в последние три недели перед переворотом. Как раз тогда, когда он по поручению Екатерины посещал Бретейля. Позднее, уже рассказывая о возмущении в столице, Рюльер добавлял: «Без мер, принятых пьемонтцем Одаром, и известных только ему и княгине Дашковой, все было бы потеряно»339. Мерси д’Аржанто и Беранже, в донесениях назвали Одара «секретарем» и «опорой заговора». В чем же состояла его заслуга? После неудачи с Бретейлем он обратился к представителям английской торговой колонии и вместо 60 тыс. французского короля занял 100 тыс. у купца Фельтена340.
Эта оборотистость и заставила Екатерину впоследствии очень ценить Одара. После переворота она назначила его библиотекарем своего кабинета. 13 июля Беранже доносил в Версаль: «Он вовсе не богат и, размышляя на вершине удачи о переменчивости фортуны, говорил мне позавчера, что желал бы обеспечить себе покой, поместив в венецианский или генуэзский банк столько, чтобы жить в приятствии, как философ»341.
В июле 1762 г. пьемонтец отправился в Италию за семьей, получив тысячу рублей на дорогу. В Архиве Внешней политики сохранились его письма к Панину и Дашковой, изученные А.Ф. Строевым, специалистом по литературе эпохи Просвещения. Близко связанный с вельможной партией, Одар сознавал изменение веса своих покровителей при дворе. Княгиня настаивала на его скорейшем приезде – видимо, он укреплял ряды панинской группировки. Но пьемонтец не торопился, ощущая шаткость ситуации в России. «Дайте мне окончить карьеру так, как Бог ссудил», – едва ли не с раздражением отвечал советник корреспондентке. В октябре 1762 г. он писал молодой женщине из Вены о неких грядущих «превратностях судьбы», которые ее ожидают: «Вы напрасно тщитесь быть философом. Боюсь, как бы философия ваша не оказалась глупостью в данном случае». Нельзя не признать прозорливости пьемонтца. До опалы Дашковой оставался один шаг.