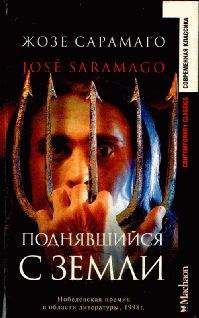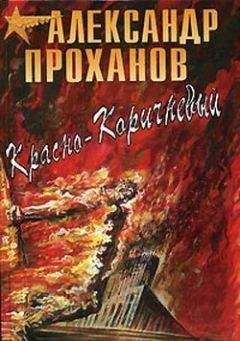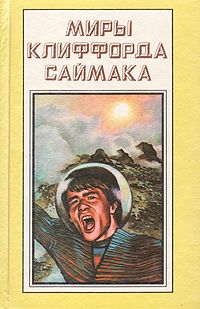После прений о том, кому именно эти волхвы служат, светлому богу или бесу, "который сидит в бездне", Ян Вышатич произвел над ними довольно жестокую экзекуцию.
Поскольку волхвы настаивали, что он не имеет права их судить и должен представить Святославу, Ян велел привязать их к форштевню ладьи и так спустил их до устья Шексны. Здесь, несмотря на просьбы волхвов отпустить их, Ян обратился к сопровождавшим его местным "повозникам", то есть отряженным для провоза данника с его дружиной, и спросил: у кого из них был кто-либо убит этими волхвами? Один ответил, что у него убита мать, у другого - сестра, у третьего - дочь. "Мстите за своих!" - сказал Ян и передал в их руки волхвов. Последующее лучше всего передает Густынский список "Повести временных лет", где сказано: "И даде Ян сих кудесников в руце их, да их погубят, яко же хотят; и тако многим томлением погубиста их, последи же повесиша на древе, в нощи же медведи влезше поядоша их".
В остальных списках сказано только, что волхвов убили и повесили "на дубе: отместье приимша от бога по правде".
В этом рассказе внимание привлекает все: волхвы, собирающие людей и творящие перед ними "чудеса", какие-то внутренние отношения "лучших" и простых людей, которые нам непонятны… Замечательно, что Ян Вышатич не прежде вмешался в создавшуюся ситуацию, чем удостоверился, что это "его князя смерды". В случившемся можно видеть отголоски ритуалов очень глубокой древности, для нас по большей части теперь непонятные. Все ставит на свои места и проясняет в рассказе два момента - слово "гобино", означавшее в древнерусском языке "изобилие", каким-то образом связанное с "житом", которое волхвы достают из "лучших жен", а также казнь, которой были преданы волхвы.
Хотя в свое время А. Преображенский, а вслед за ним и М. Фасмер производили слово "гобино" от готского "габейн" - "богатство", оба соглашались, что оно восходит также к ирландскому "габим", что означает то же самое, указывая на общекельтские истоки всех трех слов. Больше того. Этот термин тесно связан с кельтским словом "гобниа", означавшим ритуальное действо во время общенародного празднества, когда в магическом котле варилось столь же магическое пиво, - вот оно, жито, которое доставали волхвы из своих жертв! - призванное обеспечить изобилие на будущий год. Волхвы оказались не "кудесниками", а кельтскими жрецами, пытавшимися восстановить язычество, принося массовые человеческие жертвы, чтобы обеспечить урожай будущего года. Поэтому и казнь их совершалась в полном соответствии с ритуалом жертвоприношения богам воды и деревьев.
Их опускали в воду впереди ладьи, но так, чтобы они не могли захлебнуться, а потом, после "многого томления", то есть пыток, они были все-таки убиты и только после этого - повешены. Причем не просто на дереве, а именно на дубе, который был особенно почитаем кельтами и язычниками-русами. Вряд ли я ошибусь, предположив, что и дуб этот был достаточно почитаем в округе и священен: в противном случае Яну Вышатичу незачем было пройти с волхвами всю Шексну, он мог расправиться с ними и в Белоозере. Мог бы, но предпочел казнить их "от бога по правде", то есть в соответствии с ритуалом.
Все это сразу же заставляет вспомнить сцены повешения за ноги на культовом кельтском котелке из Ютландии и приключения в "стране бьярмов" Гиерлейфа из Гальфсаги. Его сначала опустили в кадку с водой, а потом подвесили за ноги между двумя огнями. Когда Гиерлейфу удалось освободиться, он убил своего врага и… повесил его труп на то место, где недавно висел сам.
Случайно ли Ян Вышатич встретил волхвов на той самой территории, где я находил следы исконных обитателей этого края?
Конечно, нет. Ведь в 1024 году в Суздале, где всегда были "варяги", как явствует из саг и подтверждается теперь археологическими находками, тоже произошло восстание против "старой чади". И хотя в этом случае нет упоминания о волхвах, их присутствие не вызывает сомнений: восставшие тоже поднимают вопрос о "гобино" и "жите"!
Факты приходили сами и нанизывались на ниточки решенных проблем. Но еще больше было вопросов, на которые я пока не видел возможности ответить. Например, почему в сагах почти совсем нет упоминаний о шведских викингах и очень мало сведений о данах, которые вместе с англами не оставляли в покое берега Британии? Почему Снорри и остальные авторы молчат о колобжегах-поморянах, почти не упоминают о вендах, ругах, обитателях Волина и Гданьска?
А ведь это они держали в своих руках восточную торговлю!
А местоположение Холмгарда, Гардарики, Миклагарда?
Именем последнего поздние саги отмечают Константинополь. Но почему они не знают Микилингарда, позднее - Мекленбурга, расположенного гораздо ближе, в землях поморских славян? Каким образом Ладога стала "Старым городом", Альдейгьюборгом, а Новгород на Волхове - Холмгардом, то есть "Островным городом"? Только потому, что так посчитали когда-то Ф.-И. Стрален-берг, Торфеус или Г.-Ф. Байер? Но почему я должен верить обветшалым мифам и втискивать в их рамки, как в некое прокрустово ложе, все те новые факты, которые с ними явно не согласуются?
Сравнивая саги друг с другом, я мог видеть, как меняется их география - от века к веку, от списка к списку.
Саги не знают Бирки на озере Меларен - крупнейшего, как мы знаем по германским хронистам и по житию святого Ансгария, пристанища шведских и датских викингов, этакого Порт-Ройяля древней Балтики, имевшего, кстати сказать, своего "короля". Между тем расцвет Бирки приходится как раз на время саг IX и Х века. Адам Бременский, писавший почти сто лет спустя после разрушения Бирки, сообщал, что в этот город ежегодно прибывали корабли данов, норвежцев, а также славян и сембов (то есть пруссов).
Не мог я ответить и на вопрос, который начинал меня интересовать уже серьезно, почему знаменитые "большие" сребреники Ярослава, своим чеканом схожие с монетами западноевропейских государств и ничего общего не имеющие с чеканом других монет домонгольской Руси, найдены только на берегах Балтики, а в виде подражаний - на лапландском Севере, тогда как собственно на Руси их нет? Потому ли, что, как писал один историк, они были изготовлены единожды, специально для уплаты дани варягам в Новгороде, и все отправились в качестве сувениров за границу? Но тогда непонятно, почему вообще не привился этот чекан, по своему исполнению на много порядков выше, чем те, что использовались до и после него…
По-иному, чем прежде, выстраивались передо мной и саги, особенно те, что Стеблин-Каменский отнес к "древним временам".
Для Тиандера, с которого я когда-то начинал, все они были на одно лицо, не имея прописки в пространстве и отметки о рождении во времени. Сказочные сюжеты, по его мнению, свободно компоновавшиеся сказителями, переходили от одного народа к другому, рассекая пространства эпох, как быстрокрылые корабли фризов. Историко-географический подход показал, что они содержат гораздо больше достоверной исторической информации, чем можно было ожидать.
В целом же, как оказалось, саги чутко реагировали на изменение этнической и политической карты Северной и Восточной Европы…
Все саги можно было расположить по эпохам, как по пластам.
Древнейший пласт сказаний о плаваниях норвежцев и исландцев уже знал на Балтике "восточный путь", который вел в далекую Хазарию. Он проходил севернее "страны бьярмов" и потом терялся в дальней дали. Никаких славян на своем пути он не встречал. Саги второго периода еще знают "страну бьярмов", но путают с нею другие соседние народы, к которым проникают скандинавы. Сам "восточный путь", похоже, кончается теперь возле бьярмов или финнов. Северных искателей приключений манит загадочная Русь, положение которой не совсем понятно, и далекая "страна греков", где можно "разбогатеть и совершить великие подвиги". И наконец- третий, самый верхний пласт исландских саг не помнит уже ни Биармию, ни "восточный путь". В них читатель находит реальную географию берегов Балтийского моря, а за страною ливов, куров, сембов и эстов ему открываются древнерусские княжества, куда изредка отправляются в торговле экспедиции наиболее смелые, удачливые и предприимчивые скандинавы…
Честно говоря, я мог быть доволен итогом. Пора было, что называется, "завязать" с Биармией, тем более что меня влекли новые загадки и новые горизонты. Вопросы, на которые я не успел найти ответа, следовало оставить для других, чтобы и они могли идти к своим открытиям таким же путем, каким шел я сам: от надежды - к разочарованию и от разочарования - к новой надежде…
И все же что-то меня держало. Весь тот обширный материал, который я пытался "сбросить" в дальнее хранилище памяти, обладал каким-то непонятным для меня излучением. Он словно бы сигнализировал о незавершенности работы, какой-то неоднозначности выводов, словно бы то, что было сделано, не доведено до конца, а то, что прочитано, прочитано не совсем так, как надо.
Что это было? Ощущение ошибки? Подсознательное чувство иных решений, не нашедших своего воплощения?