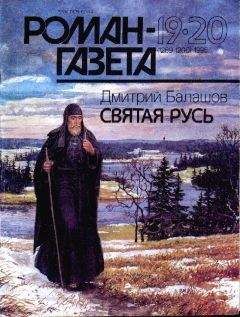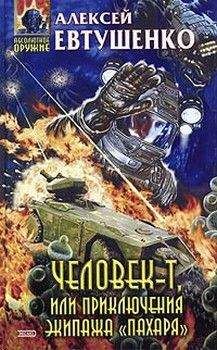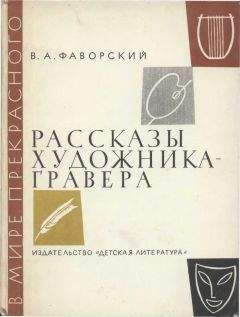Дмитрий, получивший-таки благословение радонежского игумена, коего в лоб вопросить почему-то не смог (Сергий молчаливо не позволил ему говорить о делах церковных), с некоторым запозданием узнал о решении радонежского игумена уже от самого владыки Алексия. Приходило все начинать сызнова, и князь начал сызнова, вызвав к себе вскоре после Рождества Митяя для укромной беседы в малой горнице верхних великокняжеских хором. Вызвал, еще колеблясь, поминая давешнюю безлепую вспышку печатника своего. Но и Митяй, понимавший, почто зван и за какою надобью идет к великому князю, постарался на этот раз не ударить лицом в грязь.
Он предстал перед князем Дмитрием величественный и спокойный. В темном, дорогого иноземного сукна, подбитом палевым шелком фиолетовом облачении, в черном бархатном монашеском куколе с золотою гладью вышитым надо лбом изображением Спаса и двух херувимов, с дорогим, рыбьего зуба, резным посохом в руках, с тяжелым серебряным, усыпанным смарагдами крестом на груди и с цареградской панагией, которую упорно носил, хотя, не облаченный епископским саном, носить не имел права. Массивный золотой перстень с печатью дополнял наряд спасского архимандрита, не покинувшего своей прежней должности печатника при великом князе. Густую холеную бороду свою Митяй-Михаил заботливо расчесал и умаслил благовониями, волосы были заплетены в аккуратную косицу, перевязанную ниткой скатного жемчуга. Митяй был великолепен и знал это. Он и благословил князя нарочито с отстоянием, яко мирского людина пред иноком предстоящего. Они уселись в кресла, и князь даже несколько оробел от необычной властной суровости, с какой начал Михаил-Митяй свою речь:
– Грешен, изроних давеча словеса скорбная! Но повторю и ныне: надобна церкви Христовой сугубая, земная власть! Яко в латинах: папа римский, легаты, прелаты, властительные обители, им же приданы села и делатели, тружащие на монастырь! И священство у них надстоит над несмысленною чернью, причащаясь под двумя видами в противность мирянам, ибо пастух должен быть умней и ближе к Господу стада своего! Не поклонить папе зову я, не отвергнуть наш православный чин причастия, но мудро воздвигнуть храмину церкви Христовой вровень с тою, латинской, а быть может, егда благословит Господь, и выше, и величавее, чем то, что сотворено в латинах!
И аз глаголю: пастырь должен надстоять, указуя боярам и смердам, и сам не в рубище, не в нищете сугубой, но в силе и славе предстоять, дерзая спорить с сильнейшими мира сего, прещая игемонам вся ложная и смрадная в делах и помышлениях ихних!
Сему не внял, сего побрезговал владыка Олексий, приблизив к себе и возвеличив лесных молчальников! Не молчать, глаголать миру должен пастырь божий! Нести слово, нести глаголы святых отцов, яко воду живую духовно жаждущим! Тако велел Горний Учитель! Пото и явил себя в силе и славе на горе Фавор избранным из апостолов своих! В силе и славе явил, неземным светом одеян, и устрашились даже те, избранные, упавши на лица свои, не в силах выдержать горняго света земными очами!
Они же, молчальники, глаголют, яко каждый возможет узрети божественный свет, кто молит Господа в уме своем. То – лжа!
Почто воздвигают храмы? Почто красотою, и ужасом, и глаголами хора вседневно являют силу Господню? Да, ужасен Господь! Да, первое, что должен воспринять всякой смерд, – страх Господень! Тогда стоять церкви! И власти стоять!
Попомни, княже: един муж и возможет явить миру талан святительства в рубище и наготе, но не все! Не церковь! Не милостыню собирать призван пастырь у паствы своея, но дар, с трепетом и почтением преподносимый!
Токмо тогда церковь земная выстоит в веках! Токмо тогда!
Пото и дерзаю аз, многогрешный, говорить о власти и власти алкать! Не для себя! Земной век краток у каждого! И нет у иерея наследников, кому бы передать накопленные сокровища. Церковь, одна церковь наследница наших богатств! Власти жажду, прошу, алчу, требую и добиваюсь ради единого лишь строительства церковного! Так, княже! Токмо так! Пото, дерзну помыслить, и преподобный Сергий отрекся служения церковного: ибо не по плечам ему ноша сия!
Митяй даже встал, ораторствуя. И, неволею завороженный, поднялся князь. Так они и стояли, один – кидая князю и миру высокие слова, другой – ловя и внимая. Митяй говорил и знал, что князь внемлет ему, что Дмитрий вновь и опять в его руках и вновь пойдет просить, умолять, настаивать, пока не сокрушит упрямого старца.
Токмо одно утаил Митяй от князя своего, одного не сказал, того, что к нему накануне отай являлись генуэзские торговые гости. Один – знакомец давний, а второй – вовсе незнакомый ему. Хвалили, одобряли, оставили серебро (много серебра!). Обещали, ежели так придет, свободный проезд через земли хана, невзирая на нынешнее размирье с Ордой. И вроде ничего не потребовали, что и было самым опасным, ибо для чего-то он надобен был хитрым фрягам, нежданно предложившим ему столь надобную в этот час помощь в борьбе с Киприаном, прозрачно намекая, что и будущее поставление его в митрополиты всея Руси почти у них в руках.
Митяй успокоил себя тем, что фрягам ненавистен Киприан, как ставленник свергнутого патриарха Филофея, и тут-де интересы их и московского князя Дмитрия случайно совпали… Но серебро-то он принял! И князю о том не сказал! А случайно, за «просто так» никто не дает серебра!
И в том была его первая, пусть легкая, пусть чуть заметная, измена князю.
Дмитрий на этот раз превзошел самого себя. К митрополиту Алексию были посыланы оба Морозовых, Елизар и Иван Мороз, Акинфичи являлись чуть не всем родом, пробовали уговорить владыку Федор Кошка и Афинеев, Зерновы, все трое: Иван Красный, Константин Шея и Дмитрий Дмитрич, – все перебывали у него. Самого Тимофея Васильича Вельяминова уговорил князь сходить ко владыке. Значительнейшие роды, самые сановитые бояре, так или иначе уступавшие велению и мольбам великого князя (ибо слух о том, что игумен Сергий устранился Алексиева выбора, стараньями Митяя распространился уже широко), сбитые с толку (Сергия они бы приняли безо спору), кто с охотою, кто без, уступали воле великого князя. Иные – многие, впрочем – вздыхали с облегчением, получая раз за разом твердый отказ владыки… Дмитрий и сам не по раз ходил к своему духовному родителю, выстаивал часами, словно упрямый бычок, но уговорить владыку не мог.
Меж тем к позднему лету вовсе испакостились отношения с Мамаем. Рати во главе с великим князем Дмитрием ходили под Нижний стеречи татар, потом были возвращены. Потом совершились горестная резня на Пьяне и, уже в начале зимы, ответный поход русичей на мордву…
Алексий слег Святками. У него ничего не болело, только слабость одолевала смертная. Несколько раз шла носом кровь, и крови той было уже мало. Владыка весь высох, истончал, дремал, в тонком сне воспринимая все шорохи и скрипы и тотчас открывая глаза, когда Леонтий или кто из обслуги крадучись заходил в покой. Ему все труднее и как-то ненужнее становило отбивать несносно настойчивые происки князя. Теперь, уходя в дальнюю даль, готовясь к переходу в горние выси, видел он отстраненно и особенно ясно, что Митяй или подобный ему иерарх когда-нибудь обязательно победит, а с тем вместе одолеет плотяное, земное начало, и церковь Божия обмирщится, падет жертвою собины, мелких чувств и дел, зависти, чревоугодия, гордыни и злобы. Но пусть не теперь, не при нем и не по его попущению! Ведал он теперь и то, почему отрекся Сергий, и уже не судил далекого друга своего.
Они попрощались. Уведавши незримый иным и неслышимый призыв Алексия, Сергий пришел на Москву с племянником Федором. Они сидели молча у смертного ложа владыки, потом Федор по знаку Сергия на цыпочках вышел. Они остались одни.
– Единым летом пережил я князя Ольгерда! – прошептал Алексий, и тень скорбной улыбки тронула его полумертвые уста. – Умер крещеным! Вкупе предстанем Господу! Сергие! Иное грядет! И аз уже не узрю новизн, коих, не ведаю, должно ли мне и узрети?! Ты еси… В руце твоя! Да не угаснет лампада!
Он говорил не то и не так, речь уже не была ему подвластна, но Сергий понимал и серьезно, молча кивнул головой. Да, он оставался едва ли не один от того смутного и, теперь чаялось, великого времени, когда отчаянными усилиями немногих создавалось то, что призван он охранить и передать умножившимся другим: Святую Русь.
Он наклоняется, троекратно целует сухие, едва теплые уста и ланиты верховного пастыря Руси. Ждущим, тоскующим глазам отвечает строго:
– Владыко! С миром отыди света сего! И верь: Митяй не станет наследником твоего престола!
Сергий ведает и иное, но иного не говорит умирающему, дабы не огорчать излиха. И сверхчувствием странника, покидающего временный мир, Алексий понимает невысказанное и благодарно смежает вежды.
«До встречи!» – думают тот и другой. Там, в горних высях, где души, освобожденные от бренной плоти своей, познают друг друга, там встретятся вновь эти две души, прошедшие рука об руку тернистый путь земной заботы и славы!