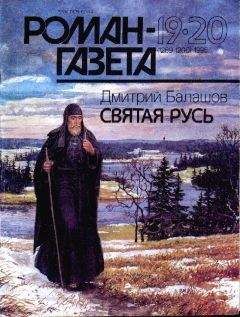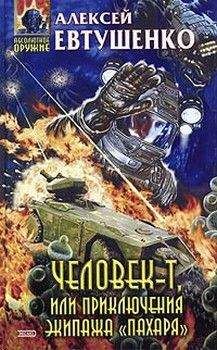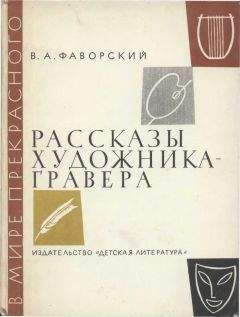– Ну, завели девки! – крутит головою Семен, яро врубаясь в брызжущий желтыми, точно масло, щепками сосновый ствол. – Теперя им на неделю вытья!
Стучат топоры. Причитает Любава, девки подголашивают ей, и первые глядельщики останавливают у ворот:
– Гляди-ко! У Федоровых свадьба! Дочерь никак отдают!
Спокойно умереть Алексию так и не дали. Теряющий силы старый человек, не давши согласия назначить Митяя восприемником своим, в конце концов «умолен быв и принужден», как гласил летописец, сказал:
– Аз не доволен благословити его, но оже дасть ему Бог и святая Богородица и преосвященный патриарх и вселенский собор.
Ничего большего Дмитрий так и не добился от Алексия. Поставленье Митяя, таким образом, отлагалось до соборного решения Константинопольской патриархии.
Слухи ползли, что умирающий Алексий передал свой перстень и посох Михаилу-Митяю, тем самым все-таки, благословивши князева возлюбленника.
Многие верили. Москва глухо роптала. На митрополичьем дворе ежеден собирались толпы народа. У дверей владычного покоя караулили виднейшие игумены и архимандриты московских и переяславских монастырей, свирепо или укоризненно поглядывая друг на друга.
Леонтий, упорно не отходивший от постели Алексия, все с большим и большим трудом проникал во владычный покой. Здесь была тишина, особенно пронзительная после ропота, броженья и гула, окружавших дворец.
– Ты, Леонтий? – спрашивал хрипло умирающий, с трудом подымая усталые веки и сперва мутно, потом все яснее и яснее вглядываясь в лик предстоящего.
– Грамоту… написал?
Леонтий пригибается к ложу, ловит тихие слова:
– Грамоту… Киприану… пошли… Пусть объединит… Ольгерд умер… в Литве пря, одолевают католики… Киприан… должен… будет… сесть на Москве! – Каждое слово давалось Алексию с трудом, но разум не изменил старому митрополиту и ныне:
– Напиши… оже будет решено патриархией… и я… благословляю его!
Он и теперь, умирая, заботил себя одним: устроеньем церковным, которое ныне уже Киприан неволею должен будет сохранить, объединивши православных Литвы и Руси. А Митяй, и не желая того, разрушит, отдав литовскую часть митрополии под власть католического Рима.
Горячая волна ужаса, восхищенья и скорби обливала сердце Леонтия, когда он писал и перебеливал дорогую секретную грамоту, которую он еще должен будет укромно вынести и тайно ото всех переслать Киприану.
Почему они все не догадывают о сем, а он единый знает?! И знает наперед, что должно для блага Руси? Или потому, что уже перешел за грань земной судьбы и видит отверстое потустороннему взору?
Леонтий и сам теперь жил как бы в двух мирах, напряженно провожая последние часы земного пути владыки, после чего шумное сборище окрест, и ряды иерархов за порогом, и московская кутерьма казались нелепою и пустой морокой, тяжелым болезненным сном, в котором безлепо совершаются непонятные здравому уму поступки: так, после очередного нахожденья князя с боярами исчезает святительский посох. И Леонтий, следя редкое дыхание владыки, думает о том, сколь суетны и мелки они все перед величием этой смерти, сколь не в подъем тому же Митяю наследство Алексия, тот крест, который нес он, не сгибаясь, на раменах своих все эти долгие годы.
– Ты здесь, Леонтий?
– Да, владыка!
– Грамоту отослал?
– Да!
– Завтра, на заре, я умру. Не отходи более от меня! – И, много позже, тихо:
– Господи! Ты веси тяжесть прегрешений моих! Смилуйся надо мною!
Дыхание владыки все тише и тише. Леонтий вздрагивает – нет, жив! На заре… Надобно распорядить, дабы владыку вовремя причастили и соборовали.
«Святые мои ангелы, предстаньте судищу Христову! Колене своя мыслении преклоньше, плачевне возопийте Ему: „Помилуй, творче всех, дело рук твоих, Блаже, и не отрини его!“»
Алексий, как и сказал, умер на заре 12 февраля 1378 года.
Бывает, именно в начале февраля (недаром он и бокогрей, и сечень), один день, когда мягкая зимняя сиреневая пелена небес вдруг исчезает, словно бы смытая древним Стрибогом. И будут потом и ненастья, и бури, и снегопады, и лютый холод, и сумасшедшие ледяные ветра, – но это будет уже весенний холод, и весенний ветер, и весенняя непогодь, и в серых, сизых и синих тучах, в громадах облачных гор, в хмуром сумраке будет мятежный непокой, зов и печаль, разбитость надежд и ожидание чуда, но уже никогда, ни разу, не проглянет сиреневой зимней успокоенности… До новой зимы, до нового того, тайного, зимнего дня, когда ляжет на поля и леса опять и вновь сиреневое зимнее солнце.
И когда Иван гнал коня, уже подъезжая к Звенигороду, был именно такой день, сумасшедший и синий, в прорывах тяжелых туч, и колючий снег бил в лицо, и конь закуржавел весь, точно сединою покрытый, и у самого, чуялось, обмороженно горит все лицо, а все равно, все одно – пахло весной!
Пока гнал легкие щегольские розвальни, много не думалось, а тут, подъезжая близ, нахмурил чело. Мать сказала: «Съезди за Лутоней, привези на свадьбу. Смотри, обоих, с женой! Не то обидятся на нас на всю жизнь!»
Строго сказала. И не подумал тогда, а вот теперь стало робко: каков будет, как поведет себя Лутоня, а паче того еговая женка, Мотя, при чванной-то жениховой родне? Как и те взглянут, не остудят ли, не огорчат ли словом?
Не поставят ли в укор и ему самому деревенских родичей? И слово сказалось!
Думал ли так отец про Услюма? Землю когда-то отдал, ездили, мать баяла, помогать… А он-то давненько не был у брата-двоюродника! Не с тех ли самых и пор? Дети там народились, и тех не видал! Такое вдруг нашло, что, кабы не строгий наказ материн, заворотил бы коня да погнал назад в Москву!
Но не заворотил, не погнал. После, как отошел, самого себя стыдно стало:
«Что это я? Родня же! Брат! Ближе мужика и нету в роду!»
Заночевал в припутной избе. Ночью не спалось, выходил к коню в наброшенном на плеча курчавом зипуне. Конь хрупал овсом, было тихо. Татей коневых, коими утешал свой непокой, и близко не было, а не спалось оттого лишь, что не ведал, как ему баять с братом.
Утром срядился чуть свет, погрыз сухомятью кусок пирога, завернутый матерью в полотно и уложенный в торбу. Запряг, отогревая руками застылую за ночь упряжь. Последний кусок подорожника сунул коню в пасть, дождал, когда проглотит, тогда уж вздел удила, поежась мысленно: каково-то брать в рот намороженное железо! Вывел из ворот, кивнув хозяину, вышедшему спросонь на невысокое крыльцо; схлестнувши каурого, на ходу ввалился в сани.
Дорогу к братней деревне отыскал не вдруг, поплутавши малость. Добро, старуха попала встречь, сама была из тех мест, объяснила. И уже когда сдвинулись обочь дороги одетые в серебро ели, и когда омягчел не часто торенный путь под копытами коня, примолк, нахлынуло прежнее, прошлое: как голодный, драный, в чем душа жива, пришел к ним Лутоня сообщить о гибели дяди Услюма; как он, Ванята, в те поры заносился и началовал над терпеливым двоюродником; как женили Лутоню, оставив ему кобылу, и как он, Иван, заносился тогда сам перед собою, гордясь, что не пожалели одарить родича… Кабы не мать, что вечно окорачивала его, поминая пример Христа, невесть кем бы и стал, чем бы и стал он ныне… И опять поняв, и опять устыдясь, Иван закусил губу и сильнее погнал жеребца.
Поле, перелесок, березняк (тут, видно, всей деревней веники вяжут), и вот там, в изножии сосен близкого бора, деревня: дом и двор, а ближе другой двор, а там, за бугром, третий… А в той вон стороне четвертый кто-то построился! Изба из свежего леса, и не заветрел еще! И, уже узнавая, безошибочно направил коня, раскинув заворы поскотины, к тому, дальнему, Услюмову дому. Лутоня! Мать-то никогда не забывала: и муки, и круп оногды подошлет. А он? Порой и не думал совсем! Даже и гребовал, когда брат наезжал в Москву, спал на полу, на овчинах, и пахло от него мужиком, деревней и щами… И снова покраснел Иван. И уже, отмахиваясь от прыгающего вокруг с лаем рыжего пса, заводил лошадь к сараю, когда выглянула с крыльца полуодетая, в одной рубахе посконной, женка, всплеснула руками, смешливо взвизгнув и убежав внутрь, и тут же почти показался и сошел с крыльца в накинутом на плеча овчинном зипуне Лутоня.
Сошел походкой хозяина, неспешно, только улыбка на все так же мальчишечьем лице расплывалась вширь. Обнялись.
Брат помог распрячь и завести лошадь. Кобыла, та самая, прежняя, раздавшаяся в боках, понюхала, тихо ржанула, ощутивши запах жеребца.
Молодой конь сторожко навострил уши. Жеребенок высунул любопытный глаз из-за спины матери. В глубине в полутьме заворочались коровы.
– Быка забил? – спросил Иван.
– Давно? Ужо вот и ентого пора под нож. Новый бычок растет!
Закатили сани, зашли в избу. Мотя, румяная от смущения и радости, уже в пестрядинном сарафане, хлопотала, обряжая стол. Явились рыжики, соленый сиг, брусника, деревянная чаша с ломтями сотового меда, другая с топленым маслом, хлеб, и уже на ухвате показался из печи окутанный паром горшок мясных щей из убоины. Брат, понял Иван, живет неплохо. Трехлетний малыш подошел застенчиво на тонких ножках к отцу; сунув палец в рот, во все глаза уставился на гостя. Лутоня посадил сына на колени, и тот тут же залез под отцов зипун и уже оттуда, высунув мордочку, по-прежнему с пальцем во рту продолжал таращить круглые глазенки, все еще робея и не зная, как быть. Вторая светлая голова высунулась из зыбки.