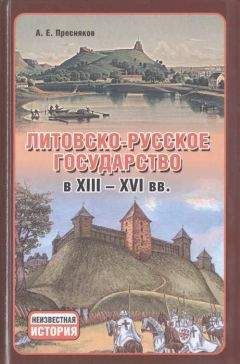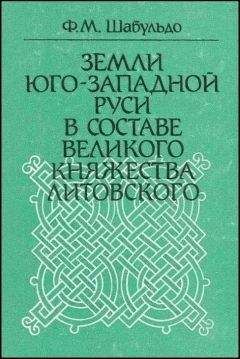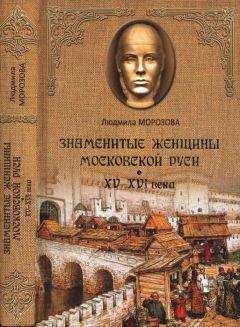Далее оговорка, что обе стороны друг другу ручаются, что «regia majestas»[130] сохранит все права и преимущества, порядки и законы. И каждый король, вновь избранный, будет подтверждать все права королевства Польского и великого княжества Литовского «sub uno contextu»[131], причем и все установленное выше будет подтверждаться присягою «tam consiliariorum modernorum, quod futurorum, etiam capitaneorum atque horum, qui ex nobilitate ad praestanda juramenta veniant»[132]. И никогда никто с той или другой стороны не должен стремиться к нарушению этих соглашений, к расчленению этого «incliti unius corporis praesentibus uniti, compacti et conglutinati»[133]. Кончаются документы обещанием подписавших польских и литовских панов стремиться всеми силами к осуществлению, укреплению и развитию заключенной унии{123}.
Прелиминарное соглашение требовало подтверждения унии общим литовско-русским сеймом. Но обстоятельства военного времени не дали возможности исполнить обещание. Александр поспешил в Польшу, чтобы утвердиться в королевской власти, и 23 октября принял и подтвердил присягою акт унии, составленный согласно с прелиминарным соглашением, только с теми панами, которые находились при нем. Этот акт унии и носит характер ратификации со стороны Александра состоявшегося соглашения. Притом Александр обещал привести «omnes Prelatos, Duces, Barones, Nobiles, Proceres et communitates nobiliores nostri Ducatus Lithvaniae», «ut omnia in praesentibus nostris Uteris et praeinsertis articulis contenta acceptant, approbant, ratificant et confirmant»[134].
Этот акт дан Александром в Мельнике, откуда он отбыл в Польшу. Тем и кончилась документальная история унии 1501 г. Этим предопределилось государственно-правовое значение ее. Позднее литовские паны на сеймах перед Люблинской унией доказывали, что уния 1501 г. и не состоялась, так как не была подтверждена всеми «станами» великого княжества, да и не соблюдалась фактически, так что этот привилей и уния Александровская не может считаться обязывающей Литовско-Русское государство.
И когда в 1505 г. польские послы требовали от Александра, чтобы, по крайней мере, даны были им подтвердительные грамоты на унию всех влиятельных лиц, не подписавших ее акта, пришлось ответить, что великий князь требовал таких «реверсалов» от всех панов рады и по всем землям великого княжества, но «тыи, которые при тых записех не были, и тыж многие земли, которые ж прислухают к великому княжеству, тых реверсалов послати не хотели для некоторых причин, в которых же ся их милости трудно видело».
«Таким образом, — заключает М.К. Любавский, — в конце концов литовцы отвергли унию, заключенную их (?) послами и подтвержденную господарем в 1501 г».{124}.
И польским политикам пришлось безуспешно хлопотать дальше о заключении унии на основании актов 1501 г. до самого 1569 года, завершившего эту историю попыток создать сколько-нибудь прочную правовую форму для польско-литовского объединения. Акт 1501 г. по содержанию — первая настоящая «уния», соединение равноправных свободных народов.
Пичета («Литовско-польские унии и отношение к ним литовско-русской шляхты») несколько преувеличивает значение унии 1501 г. для вопросов внутреннего строя Литовско-Русского государства, полагая, например, что «если бы уния 1501 г. превратилась в реальный факт», то «литовское боярство должно было бы лишиться своего авторитета», так как она-де «уравняла бы права польской и литовско-русской шляхты, лишив радных панов того значения, которое они приобрели по привилею 1492 г».{125} Несомненно, однако, что именно магнатство литовское провалило осуществление этой унии. Впрочем, на то были и иные причины, вытекавшие из отмеченных выше общих исторических условий.
Отсутствие достаточной солидарности во внешних интересах обоих государств ослабляло основную опору унионных стремлений — потребность во взаимной военной поддержке. Польша более чем слабо помогала Литве в борьбе ее с Москвою, и реальных выгод от унии не получилось. Ввиду отсутствия этих реальных выгод понятно, что почва для оппозиции литовских сепаратистов была весьма благоприятна.
Как бы то ни было, великое княжение Александра не разрешило вопроса о польско-литовских отношениях, не выработало устойчивой государственно-правовой формы унии. Надежда на польскую помощь против Москвы обманула. Александру с 1500 г. пришлось вести переговоры о мире при дипломатической поддержке послов венгерского брата Владислава и заключить в 1503 г. перемирие на 6 лет (до 25 мая 1509 г.), уступив Ивану, «государю всея Руси», земли отъехавших в Москву князей Стародубских и Вельских, Шемячича, Трубецких и Мосальских, 19 городов и в том числе такие крупные пункты, как Чернигов, Стародуб, Брянск, Путивль, Рыльск, Новгород-Северск, Гомель и др.
ГЛАВА X.
ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕНИЕ СИГИЗМУНДА
19 августа 1506 г. Александр умер, и с его смертью снова наступал критический момент для польско-литовских отношений. Литовское правительство не считало себя связанным договорами 1499 г. и унией 1501 г. и не думало об обязательстве не выбирать великого князя без предварительного соглашения с поляками. Назначен был в Вильне съезд всех земель великого княжества, и 2 октября 1506 г. избран был, как «дедичный и прироженый господарь», младший Казимирович, Сигизмунд, литовскими панами и княжатами «со всеми землями, прислухаючими к великому князству». Повторились условия избрания Александра.
Называть ли собрание 1506 г. вальным сеймом? Любавский правильно отмечает, что тут не было «послов» от воеводств, а был, очевидно, съезд магнатов и вельмож, собравшихся на зов «без процедуры избрания»{126}. Такой съезд едва ли можно рассматривать как «учреждение» и применять к нему в техническом смысле слова термин вального «сейма». Но спорить об этом не значит ли спорить о словах?
В 1506 г. в Вильне был «сойм» представителей руководящих политических сил всех земель литовской Руси, и его решение было актом общей их всех «политической воли»… Избрание Сигизмунда было признанием за ним господарской власти со стороны всех земель Литовско-Русского государства, как за господарем дедичным и прироженым: сохраняется еще чисто средневековое сочетание династических прав с необходимостью признания их за данным представителем династии так называемой «народною волей», которая тут уже выражается вельможами — правящим слоем общества. Антидинастические тенденции, сказавшиеся и на этот раз в толках о кандидатуре Михаила Глинского (как при избрании Александра в кандидатуре Семена Михайловича Слуцкого), не имели практического значения.
Сигизмунд I Казимирович «Старый» (1467-1548)Избрав Сигизмунда, паны-рада, духовные и светские, и все участники избирательного сейма били челом новому господарю о подтверждении прав и вольностей, и Сигизмунд, связав себя за два дня до избрания (18 октября) письменным обязательством в этом смысле, 7 декабря выдал в Городне подтвердительный привилей, утвердив его присягой. По форме и значению это подтверждение привилея 1492 г., но в одном пункте он углубляет и расширяет политическое значение рады господарской.
Вот этот пункт:
«item super statutis et consuetudinibus approbatis et laudatis, antiquis servandis aut novis condendis promulgandisque et plurimis, quae erunt ordinanda pro communi utilitate Reipublicae ac Nostra, non nisi cum matura deliberatione ac cum scitu et consilio consensuque dominorum consiliariorum nostrorum Magni Ducatus Lithvaniae tractabimus ac disponemu»[135],
т. е. Сигизмунд обязывался не изменять и не пополнять существующих порядков и узаконений, иначе как с ведома, совета и согласия панов-рады великого княжества Литовского. Формально это, пожалуй, ничего не меняет сравнительно с при-вилеем 1492 г. Но более категорическая и отчетливая редакция позволяет признать, что привилей 1506 г. более твердо и точно установил необходимое по праву участие рады в функциях законодательной власти[136]. Так определилось положение нового господаря литовского и русского.
Но поляки, тщетно напоминавшие через особых послов о соглашении 1501 г., убеждая литовцев не приступать к избранию господаря отдельно от Польши, парализовали политические последствия виленского акта, избрав на польский престол того же Сигизмунда. Фактически уния была этим спасена от нового потрясения.
Положение было формально улажено, когда все добытые результаты подверглись сильнейшей встряске, известной под названием восстания Михаила Глинского. Нельзя сказать, чтобы в исторической литературе достаточно установилось определенное воззрение на смысл этого восстания. Антонович называл его «последней попыткой реакции русских князей против польско-литовского направления» и для Грушевского это — «последний пароксизм борьбы русского элемента, собственно русских князей и панов, с ненавистной им системой в великом княжестве Литовском», а для Любавского «это было проявление политического своеволия, выросшего на почве того феодализма, каким насквозь было проникнуто Литовско-Русское государство, с его системою частного подданства, с его многочисленными государями-землевладельцами, и отчасти проявление национального антагонизма в недрах этого государства, русские области которого были недовольны политическим преобладанием Литвы»{127}.