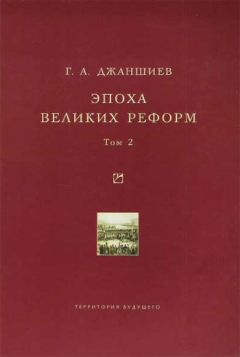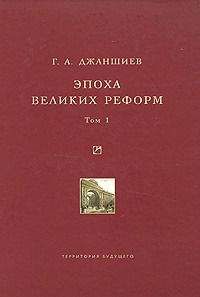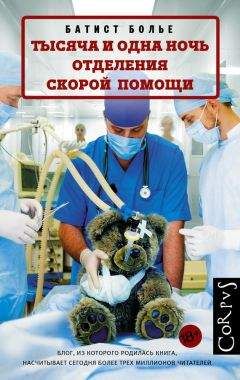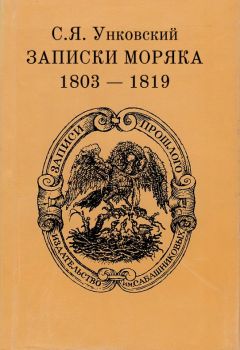В записке первого отдела комиссии, с соображениями которого в пользу суда присяжным и его нынешней организации согласилось общее собрание 22 и 23 ноября, указано прежде всего на действительное состояние этого института. Суд присяжных, говорится там, впервые введенный в России на основании Судебных Уставов 1864 г., несмотря на громко высказавшиеся тогда указания на недостаточную для того развитость русского народа, только что освобожденного от крепостной зависимости, и на опасность, представляемую означенным институтом с точки зрения политической, просуществовал уже свыше тридцати лет и, хотя за это время подвергся ряду частичных преобразований, тем не менее сохранил до сих пор неизменными главнейшие черты первоначальной своей организации. Таким образом, суд присяжных оказался у нас вполне жизнеспособным, за тридцать лет своего существования глубоко проник в русскую жизнь, завоевал себе несомненные симпатии как самого населения, так и представителей нашего судебного ведомства, мнения которых имеют, конечно, в данном случае особое значение, как лиц, участвующих в отправлении правосудия совместно с присяжными. В подтверждение основательности такого заключения нельзя не указать на сочувственное отношение к суду присяжных нашей печати, за исключением лишь весьма немногих ее органов (в записке названы эти органы: это «Гражданин», «Московские Ведомости» и «Русский Вестник»), восстающих в существе против самой возможности привлечения общественного элемента в той или иной форме к делу отправления суда, а также на многочисленные, посвященные деятельности упомянутого института и признающие его вполне удовлетворяющим своему назначению сочинения, исследования и отдельные монографии, принадлежащие притом перу как юристов-теоретиков, так и судебных деятелей.
«Защитительные речи», 348.
Соображения государственной канцелярии.
«Из лекций». Т. I, 37.
«Курс уг. суд.». СПб., 1896. Изд. 2-е. Т. I, 460.
В «Юридической Летописи», занимавшей (прекратилась в 1892 г.), благодаря своему двусмысленному нейтралитету, совершенно изолированное положение в юридической прессе, появилась статья, написанная в том же духе (1891, № 7).
В «Русской Мысли» (1891, № 8) было помещено обстоятельное возражение против этой статьи, в котором ясно доказывалось, что невозможно обезоружить врагов «основ судебной реформы» простым изменением номенклатуры или маскарадным ренегатством.
Сенатор Принтц, один из немногих оставшихся в живых деятелей великой судебной реформы, говоря о времени, непосредственно ей предшествовавшем, между прочим, писал в «Журнале Министерства Юстиции» 1895 года: молодое поколение, выросшее в царствование Александра II, вряд ли имеет отчетливое представление о том судебном строе, при котором жили не только их предки, но и отцы. Иначе оно содрогнулось бы и не поверило, что могли так недавно существовать порядки, столь мало отвечающие справедливости и народному благосостоянию. Обширная область суда и расправы принадлежала бесконтрольно помещикам, полиции и другим начальствам; масса лиц судилась военным судом; самый суд происходил под покровом тайны в отсутствии тяжущихся и подсудимых; господствовала примерная волокита; защиты не было; предания суду не было, а при отсутствии улик клеймили оставлением в подозрении; принесение жалобы в Сенат не останавливало ссылки в Сибирь и телесного наказания и пр. (см. № от декабря 1895 г.). См. также мои: «Основы судебной реформы», главу «Что такое новый суд?».
– О дореформенной полицейской расправе могут дать представление характерные рассказы суд. след. Лучинского. Про городничего, при котором служил Лучинский в черкасской городской полиции, он рассказывает: «Городничий Щербцов принадлежал к типу тех полицейских чиновников, которые тогда нравились начальству и считались отличными деятелями… Прежде он служил в Киеве частным приставом в то время, когда там был старшим полицеймейстером Голяткин, памятный старым киевлянам и прославившийся на всю губернию. Он объезжал город на тройке пожарных лошадей с четырьмя казаками, из которых один скакал впереди, два сзади и один сидел на козлах с кучером. Когда полицеймейстер что-либо замечал, то тотчас же производил и расправу: кучер останавливал экипаж, казаки спрыгивали с своих лошадей, хватали указанную жертву, растягивали ее на земле, один садился на голову, другой – на ноги, третий отсчитывал удары нагайкою по обнаженному телу, а четвертый держал верховых лошадей»… Вот в какой полицейской школе воспитался городничий и воспринял все ее начала. Так, например, всякое утро городничий выслушивал доклад и призывал для допроса арестованных; при этом нередко случалось, что допрашиваемый «вылетал из присутствия, а вслед за ним вылетал и городничий с побагровевшим лицом, с пеною у рта и производил кулачную расправу»… В особенности это производилось всегда с тем, кто при своих объяснениях решался упомянуть слово «закон». Тогда городничий немедленно вылетал из присутствия, произнося: «Вот я тебе покажу закон!» и при этом раздавалась громкая пощечина: «Вот тебе закон» (другая пощечина). «Город Высочайше мне вверен, а ты мне смеешь говорить про закон, – понимаешь ли, город Высочайше мне вверен, – я тебе закон! Вот я пропишу тебе закон, взять его!» («Русск. Стар.», 1897, сент.).
– Вот, что писал Погодину Даль весной 1851 г. о старых судебных порядках. «Мельников замотался по следствиям, которые поручает ему министр, он мало гостит в Нижнем. А дела делаются здесь хорошие, например: богатый мужик Тимофей подозревает бедного Василия из соседней деревни в воровстве; идет к нему миром с обыском, ничего не находит, но пьяная его ватага избивает всю весью Василия до полусмерти. Хмель прошел – как быть? Заседатель все поправил: Василий обвинен в воровстве без малейшего повода и улик и отдан в солдаты. По следствию Мельникова открывается, что, вероятно, и кражи-то не было, и Василия подозревать нет повода. Или: четыре вора обокрали церковь; их поймал староста с мужиками на месте и отобрал деньги и вещи все налицо. За тридцать рублей сер. воры оставлены в подозрении, а староста и и крестьян поклепщиков приговорены в арестантскую роту за разноречивые показания. Или: мужик приехал из Семенова в Нижний на базар с товаром; зазевался, лошади ушли с санями; он бежит следом, спрашивая встречных, дальше, дальше, наконец, добегает по Волге до Макарьева, а лошадям след простыл. Бедняк идет в земский суд заявить пропажу. А где у тебя паспорт? – Какой паспорт? Я прибежал чуть живой с базару, из Нижнего. И его, как безыменного бродягу, приговаривают: заклеймить и отдать в арестантскую роту. Приговор был уже утвержден, когда я успел спасти бедняка». (См. Барсуков– Жизнь Погодина. Кн. II).
«Русск. Архив», 1889. № 7, инструкции гр. Бенкендорфа чинам корпуса жандармов.
См. проф. Я. Баршева. Основание угол, судопр. СПб., 1841. С. 155.
См. «Русские народные картины» Ровинского. Т. V. 0.327.
См. там же. С. 322.
См. там же. С. 324.
«Московские Ведомости», 1886. № 49.
См. Журн. Госуд. Совета, 1862. № 65.
См. Записку Блудова в т. II «Дела о преобраз. суд. части». См. выше главу VII, § 1.
Т. XVIII того же Дела.
«Моск. Вед.», 1867. № 69.
«Моск. Ведом.», 1886. № 198.
«Моск. Ведом.», 1867. № 69.
См. «Новое Время» от 17 апреля 1891 г.
«Журн. Мин. юстиции», 1866. № 5.
См. Записку К. П. Победоносцева в т. XIII, ч. 3 «Дела о преобразовании судебной
части в России».
См. «Дневник», II, 1882. С.352.
См. Собрание сочинений Аксакова, IV. С. 591.
С такой именно точки зрения приветствовал в «Юридической Библиографии» редактор «Юрид. Вестн.» проф. Сергеевский появление курса проф. Фойницкого в 1884 г. в разгар нападок М. Н. Каткова. См. ниже §И. Я. Фойницкий, примеч.
Если «бить» и «учить» по дореформенной терминологии значило одно и то же, то в жестоком военном быту и подавно эти понятия казались тождественными. Военный автор в своих «Воспоминаниях» так живописует дореформенные военные нравы: «Учить и бить, бить и учить было тогда синонимами, – так начинает автор свой рассказ. – Если говорили: поучи его хорошенько, это значило: задай ему хорошую трепку». Для «учения» пускались в ход кулаки, ножны, барабанные палки и т. п. Сечение розгами употреблялось сравнительно реже, так как это наказание требовало больше времени, приготовлений, а кулаки или палка были всегда готовы. Солдат било прежде всего их ближайшее начальство: унтер-офицеры и фельдфебеля, били также и офицеры. «Капралы и фельдфебеля дрались, так сказать, преемственно, по традиции: ведь их самих тоже били несчетное число раз, прежде чем они научились уму-разуму, и вот когда наступила их очередь учить других, они практиковали над своими подчиненными приемы той же суровой школы, которую прошли сами. Большинство офицеров того времени тоже бывало бито дома и в школе, а потому били солдат из принципа и по убеждению, что иначе нельзя и что того требует порядок вещей и дисциплина». Особенную жестокость в наказании солдат проявляли те унтер-офицеры и фельдфебеля, которые предварительно прошли курс ученья в «палочной академии», как тогда называли в армии учебные кантонистские батальоны. Для примера автор рассказывает такую сцену. «Вдоль выстроенной во фронт роты проходит такой “академист-фельдфебель” и останавливается перед молодым солдатом. “Ты чего насупился? Сколько раз учить вас, что начальству весело следует смотреть в глаза!” – кричит фельдфебель, сопровождая слова свои увесистою пощечиною. Получив такое внушение, молодой солдат как-то жалостно щурит глаза, но это вовсе не удовлетворяет грозного учителя. – “Веселей смотри! Веселей смотри, тебе говорят, истукан ты этакий!”– приказывает фельдфебель, продолжая наносить удары неумеющему весело плакать. Поучаемый солдатик таращит глаза на свое сердитое начальство, и губы его складываются в какую-то болезненную гримасу, долженствующую изображать улыбку. Довольный своим “ученьем”, фельдфебель удаляется, а старый ветеран, с тремя нашивками на рукаве, в утешение своему молодому товарищу и соседу говорит: “Вот что значить, брат, настоящая служба: бьют и плакать не дают”… Такие сцены были тогда явлением обыденным в наших армейских полках». («Русск. Стар.», 1894, июль. С. 110–111).