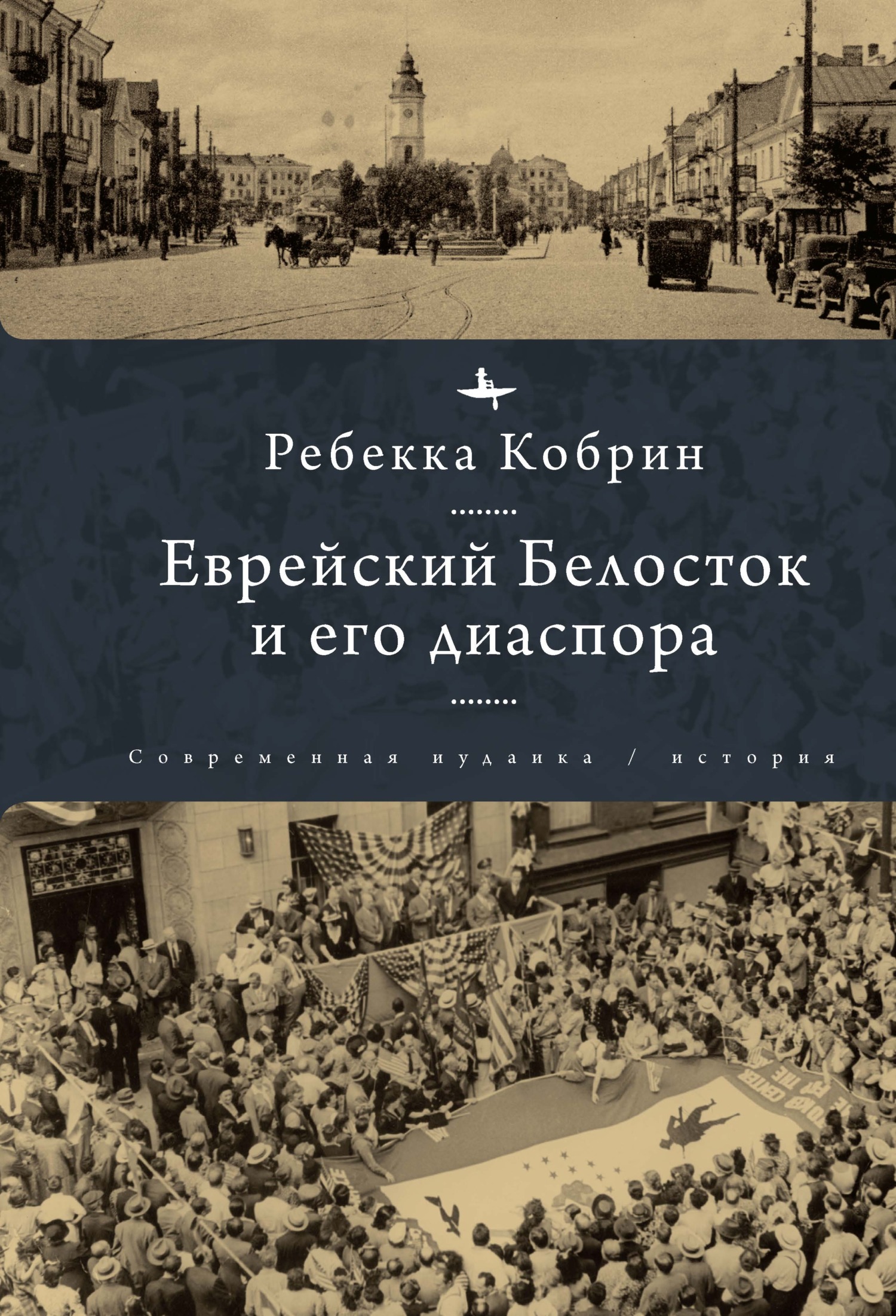Самый верный признак того, что Макс дистанцировалась от своей «исламской веры» — то, что она пользуется своим правом на демонстрацию тела мужчинам. Делается недвусмысленный намек на то, что самая главная свобода для мусульманок в буквальном смысле заключается в обнажении себя… Сексуальность играет главную роль в их свободе. Акцент на индивидуальной агентности способствует стиранию истории, смыслов и контекста, в котором образы мусульманских женщин производятся и циркулируют. Также подвергаются эпистемическому насилию реальные жизни бангладешских работников швейной индустрии. Бывшую мусульманскую модель спасли от ислама, отправив в мир свободного рынка, где она может «продавать» свое тело, чтобы продавать одежду. Свобода выглядит выставлением на продажу [442].
Пишущий о Франции Эрик Фоссен отмечает, что «равенство отныне определяется исключительно в терминах гендера, то есть оставляя за скобками расу или класс. Точно так же laïcité понимается в первую очередь как сексуальный секуляризм, поскольку она касается прежде всего женщин и сексуальности, а не разделения церкви и государства в школах, как это было в Третьей республике до 1980‑х» [443]. Анна Нортон в своей книге «О мусульманском вопросе» отмечает, что сексуальное удовольствие предлагается сегодня в качестве секулярного искупления [444].
В новом дискурсе секуляризма секулярность и сексуальное освобождение — синонимы. Старое разделение на публичное и частное стерто; секс стал публичной деятельностью («Личное — это политическое» — таков был лозунг феминизма второй волны). В этой связи полезно вернуться к первому тому «Истории сексуальности» в поисках критического объяснения принципов работы понятия сексуального освобождения. Фуко утверждал, что идея о том, что секс долгое время подавлялся, служила не только для его натурализации, но и для того, чтобы создать антитезис власти (секс как естественная черта, не подверженная социальным и прочим ограничениям), при этом игнорировалось то, что на самом деле он был инструментом власти.
Что я хочу показать, — говорил Фуко в одном из интервью, — так это то, что объект «сексуальность» на самом деле — инструмент, сформированный уже очень давно, и такой, который конституировал вековой аппарат подчинения [445].
В «Истории сексуальности» он сформулировал это следующим образом:
Не следует описывать сексуальность как некий своенравный напор, по своей природе чуждый и неизбежно непокорный власти, которая со своей стороны изнуряет себя тем, чтобы ее покорить, и зачастую терпит крах в попытке полностью ее обуздать. Сексуальность предстает, скорее, как чрезвычайно тесный пропускной пункт для отношений власти [446].
Всплеск дискуссий о сексуальности (и сексе как о ее предполагаемой движущей силе) сделал ее объектом знания, а следовательно, и регулирования. К концу XVIII столетия «сексуальное поведение населения взято одновременно как объект анализа и как цель для вмешательства» [447]. Секс был, как пишет Фуко, «доступом одновременно и к жизни тела, и к жизни рода» [448]. На Западе секс предлагался в качестве ответа на вопрос о том, кто мы и что мы. Мы почти полностью — «наши тела, наши умы, наша индивидуальность, наша история — были подчинены логике вожделения и желания» [449]. Секс тем временем стал основанием для государственного регулирования населения, дисциплинирования тел, надзора за детьми и семьями, разделения на нормальное и извращенное и классификации идентичностей (глава 2). Мы не должны думать, пишет Фуко, что, сказав «да» сексу, «мы говорим „нет“ — власти; напротив, здесь мы следуем за общей нитью диспозитива сексуальности» [450].
Для Фуко настоящая эмансипация предполагает «настоящее движение по де-сексуализации», отказ от присвоения пола как ключа к идентичности. По этой причине он считал, что движения за освобождение женщин имеют «гораздо более широкие экономические, политические и прочие цели, чем гомосексуальные» освободительные движения, потому что им было легче отказаться от «сведения проблемы к сексуальности» [451]. Если у движений гомосексуалов не было иного выбора, потому что «подвергалась нападкам, запрещалась и дисквалифицировалась сама сексуальная практика в качестве таковой», потребность ограничить свои требования сексуальной спецификой мешала избежать «ловушки» власти. «Тела удовольствия», намеренно размытая формулировка, была для Фуко альтернативой для политики идентичности, которая сформировалась вслед за наукой о сексе и сексуальности. Фуко отвергал позитивную детализацию эмансипации; суть была в негативности: освободиться от секса, а не определяться им.
С тех пор, как писал Фуко, ничто не изменилось, хотя виды регулирования и определения норм (по вопросам сексуальных домогательств, абортов, контрацепции, ВИЧ, однополых браков и усыновления детей и так далее) были по-разному адаптированы в разных странах Запада в зависимости от исходов конкретных конфликтов и кампаний. Я не хочу отрицать важность проведенных реформ, но хочу напомнить об одном аспекте, который мы иногда забываем. Дебаты по этим проблемам и порожденные ими реформы усилили власть «вожделения и желания» над воображаемым современного Запада, в политике как у левых, так и у правых {18}. Неважно, евангелисты ли выступают за то, что сексом можно наслаждаться только в гетеросексуальных браках, или секуляристы настаивают на том, что секс — это самая главная реакреационная деятельность, неважно, считается ли проституция криминальной деятельностью или еще одной формой наемного труда, секс все равно остается в западном эмансипаторном дискурсе «плотной точкой переноса для отношений власти» [452].
В значение слова «демократия» отныне включается понятие «сексуальной демократии», понимаемой, как ни парадоксально это звучит, как полная свобода индивидуального желания в пределах нормативных ограничений, не признаваемых в качестве таковых. Нормативные ограничения перестают быть очевидными, если они получают определение через оппозицию к некоему эксцессу, в частности хищным насильникам из городских гетто и бандам африканцев, организаторам секс-трафика, практикующим полигамию, ведущим беспорядочную половую жизнь (в отличие от моногамных) геям, мстителям за поруганную честь, сознательно увечащим гениталии. При этом эксцесс работает в обе стороны — сексуальной распущенности в одном случае, и сексуальной репрессии в другом. Мужчины-мусульмане же становятся олицетворением сексуальных излишеств (полигамия, групповые изнасилования непослушных дочерей и сестер) и орудием сексуального подавления женщин и гомосексуалов (побивание камнями, убийства из‑за чести, принуждение к ношению хиджаба и паранджи, заключение в тюрьму и убийство гомосексуальных мужчин и женщин). Эти негативные репрезентации создают «неестественный» контраст с тем, что считается «естественным» и не вызывающим вопросов. Поэтому, как во французских примерах, описанных мною выше, от «освобожденных» женщин ожидают, что они будут следовать установленным нормам, делающим из выставления напоказ собственного тела демонстрацию «естественной» привлекательности женщин для противоположного пола. А в Нидерландах, где однополые браки были разрешены в 2001 году, реплика Пима Фортейна, что он любит «трахать» марокканских мальчиков и не хочет, чтобы ему мешали отсталые имамы, считается призывом к толерантности (в отношении гомосексуализма), а его акцент на доступности смуглых тел, сформулированный на языке колониального ориентализма, при этом нормализуется. Точно так же в Израиле рекламные кампании Тель-Авива как места для туристов-геев — «розовое отмывание», как их называют критики — направлены на то, чтобы представить Израиль современной (западной) толерантной нацией (без всякого упоминания о ежедневном насилии против палестинцев и об осуждении гомосексуализма ортодоксальными раввинами) по контрасту с остальным Ближним Востоком, который, как сказал Беньямин Нетаньяху в выступлении перед американским Конгрессом, является «регионом, где женщин побивают камнями, геев вешают, а христиан подвергают гонениям» [453]. Нортон отмечает, что терпимость по отношению к гомосексуализму становится «правом на нетерпимость по отношению к мусульманам» [454].