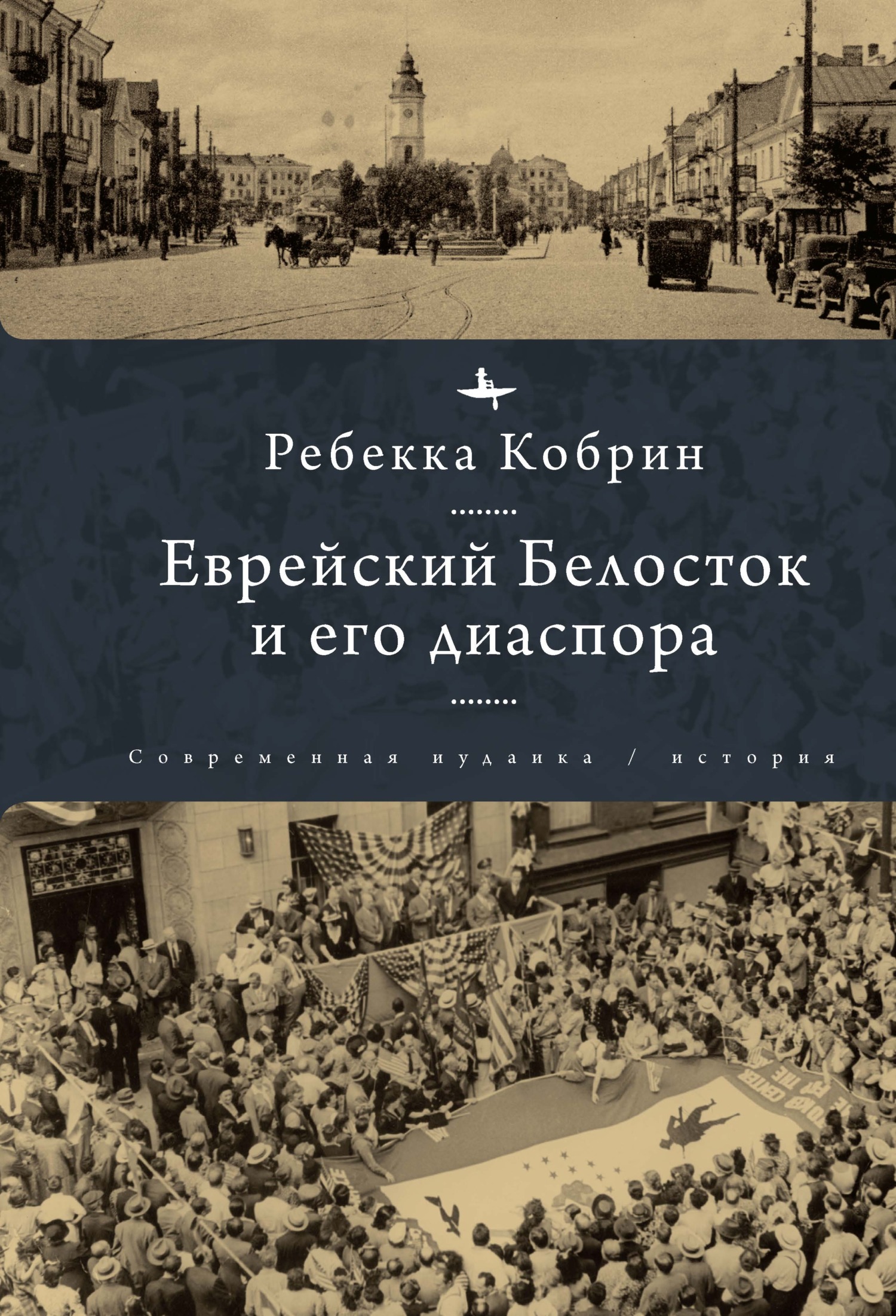Даже у ассимилировавшихся евреев не исчезал отпечаток особости, как это стало очевидно во Франции во время дела Дрейфуса, а во многих других европейских странах в 1930‑е и 1940‑е годы.
«Мусульманский вопрос» — это сегодняшняя версия «еврейского вопроса», даже когда ссылки (со стороны папы, Ангелы Меркель, Николя Саркози и многих других) на сохранение европейских иудео-христианских традиций (с общими ценностями, моралью и практиками) призваны стереть долгую и мучительную историю европейского антисемитизма. Нортон указывает на то, что «отвержение мусульман маркировано символическим (но только символическим) принятием евреев… Отказ от одного антисемитизма становится поводом для другого… Так ненависть становится требуемым знаком любви» [467]. Сегодня расиализированный ислам (описываемый на языке «культуры») занимает место, которое ранее отводилось евреям, — место неассимилируемого Другого, и проблемы, которые он создает для принимающих его европейцев, формулируются в схожих выражениях. В современном дискурсе секуляризма вопрос о религии как препятствия для эмансипации сосредоточен преимущественно на исламе; другие религии (христианство, иудаизм) доказали свою совместимость с демократией — окончательно этот пункт утвердился во время холодной войны (глава 4).
Конечно, вопреки утверждениям либеральной теории о том, что именно абстракция создала индивидов (каковы бы ни были их взгляды и общественное положение) и сделала их равными единственно ради цели политического представительства, всегда существовали предварительные условия. Исходно единственными представимыми индивидами были белые мужчины, собственники; позднее критерием стала вообще мужественность. Разная история предоставления права голоса в Западной Европе и в США показывает пределы абстракции как инструмента политического равенства даже в узком понимании. Она могла служить идеалом для групп, борющихся за гражданские права, но едва ли гарантировала автоматическое устранение различий [468]. С одной стороны, дискурсивное конструирование абстрактного индивида опиралось на конкретный физический эстезис: женщины как «пол», черные как носители нестираемой отметины на теле. Сайдия Хартман, описывая политические возможности, которые были у бывших рабов в Соединенных Штатах, говорит о «темнице плоти … упрямой и неустранимой материальности физиологического различия» [469]. С другой стороны, физические или культурные условия задавались категориями национальной идентичности и императивами капитализма: лишь некоторые типы людей отвечали критериям абстракции, обеспечивавшей гражданские права [470].
В этом смысле нынешнее требование к мусульманам соответствовать определенным критериям допустимости не новость. Что поражает сегодня, так это характер этих критериев и то, что они формулируются на языке эмансипации и равенства. Вопрос стоит не о том, чтобы предоставить права или распространить равенство на этих новых жителей европейских стран, а о том, чтобы определить, достаточно ли они эмансипированы и/или эгалитарны в психологическом плане, чтобы отвечать условиям полноправного членства и включения на постоянной основе. В дискурсе секуляризма интериорность считается условием; не состоянием, которому еще только предстоит реализоваться, а чем-то естественным, что должно быть просто-напросто раскрыто. Эмансипация перестала быть юридическим устранением препятствий или помех для свободы. Равенство уже не достигается абстрагированием от социальных и иных различий. И точно так же ни эмансипация, ни равенство не считаются последствиями действий государства (хотя и говорится о том, что эти качества процветают при демократии). Скорее, эмансипация и равенство считаются чертами, исходно присущими индивидам и учреждающими их агентность, саму их человечность, и тем самым их соответствие условиям для получения членства в нации. При таком взгляде секулярное демократическое национальное государство только лишь создает контекст для тех, кто уже эмансипировался, защищая их право на самоопределение. Но оно не может привить это качество людям, у которых его нет. Присутствие неэмансипированных создает угрозу для самого существования западной цивилизации, угрозу, которая должна быть сдержана или устранена. Айаан Хирси Али именно в этих терминах рассказывает историю убийства кинорежиссера Тео Ван Гога и террористических атак 11 сентября 2001 года, в конечном счете она возлагает вину за смерти и разрушения не на одного убийцу или группу убийц, а на сам убийственный ислам [471]. «Покрытие — это террористическая операция», — предупреждал в 1994 году философ Андре Глюксман. «Ношение покрывала — это в некотором роде агрессия», — сказал французский президент Жак Ширак в 2003 году, накануне принятия закона, запрещающего ношение хиджаба в государственных школах [472]. Не так давно никаб был полностью запрещен в ряде стран на основании того, что он создает угрозу для общественной безопасности. В конце концов, как утверждают некоторые феминистки, «под покрывалом может скрываться борода» [473]. Здесь делается намек на то, что существует обязательная связь между «покрытой» сексуальностью и насилием политического терроризма {19}.
Репрезентация покрытых женщин как террористок имеет множество противоречивых последствий. С одной стороны, эти женщины кажутся агрессивными, покрывало воспринимается как знамя террористического бунта. С другой, они предстают жертвами своих родственников-мужчин, варваров, использующих женщин для достижения собственных целей. В обоих случаях паранджа воспринимается как главный признак неэмансипированности женщин, их насильственного или добровольного подчинения культуре, в которой превалирует неэгалитарная система гендерных отношений. Призывы запретить хиджабы, покрывала и никабы (а с недавних пор и паранджи) произносятся во имя права женщин на самоопределение и во имя равенства полов.
Генеалогия эмансипации
Сексуальное освобождение и равенство в дискурсе секуляризма стали синонимами — даже несмотря на то, что эмансипация необязательно совпадает с равенством. На самом деле исторически эмансипация, свобода и равенство не эквивалентны. Я хочу исследовать это различие для того, чтобы критически оценить, что именно стоит на кону, когда понятие сексуальной эмансипации становится ключом к гендерному равенству. С этой целью полезно начать со слов Карла Маркса о вопросе эмансипации:
Ни в коем случае нельзя было ограничиться исследованием вопросов: «Кто должен эмансипировать? Кто должен быть эмансипирован?» Критике следовало бы сделать еще и третье. Она должна была задаться вопросом: «О какого рода эмансипации идет речь?» [474]
Эмансипация — сложное слово. Согласно «Оксфордскому словарю английского языка», оно означает отмену «ограничений, наложенных превосходящей физической силой или юридическими обязательствами» [475]. В римском праве эмансипацией называли освобождение женщин или детей от patria potestas — власти отца. В английском гражданском праве католикам были даны права по Закону об эмансипации католичества 1829 года. Рабы в Соединенных Штатах Америки были отпущены на волю в 1863‑м, условия их освобождения были прописаны в знаменитой «Прокламации об освобождении рабов» Авраама Линкольна. Хотя эмансипация и отпущение на волю сегодня используются как синонимы, в Древнем Риме отпущение на волю касалось рабов и слуг, эмансипация — членов семьи. В переносном смысле значение слова расширилось до освобождения от «интеллектуальных, моральных или духовных оков» [476]. В обоих определениях эмансипироваться означает освободиться из-под власти, иметь возможность идти вперед, не встречая препятствий на своем пути, быть до определенной меры не стесненным в мыслях и движении, получить свободу, избавившись от положения притеснения.