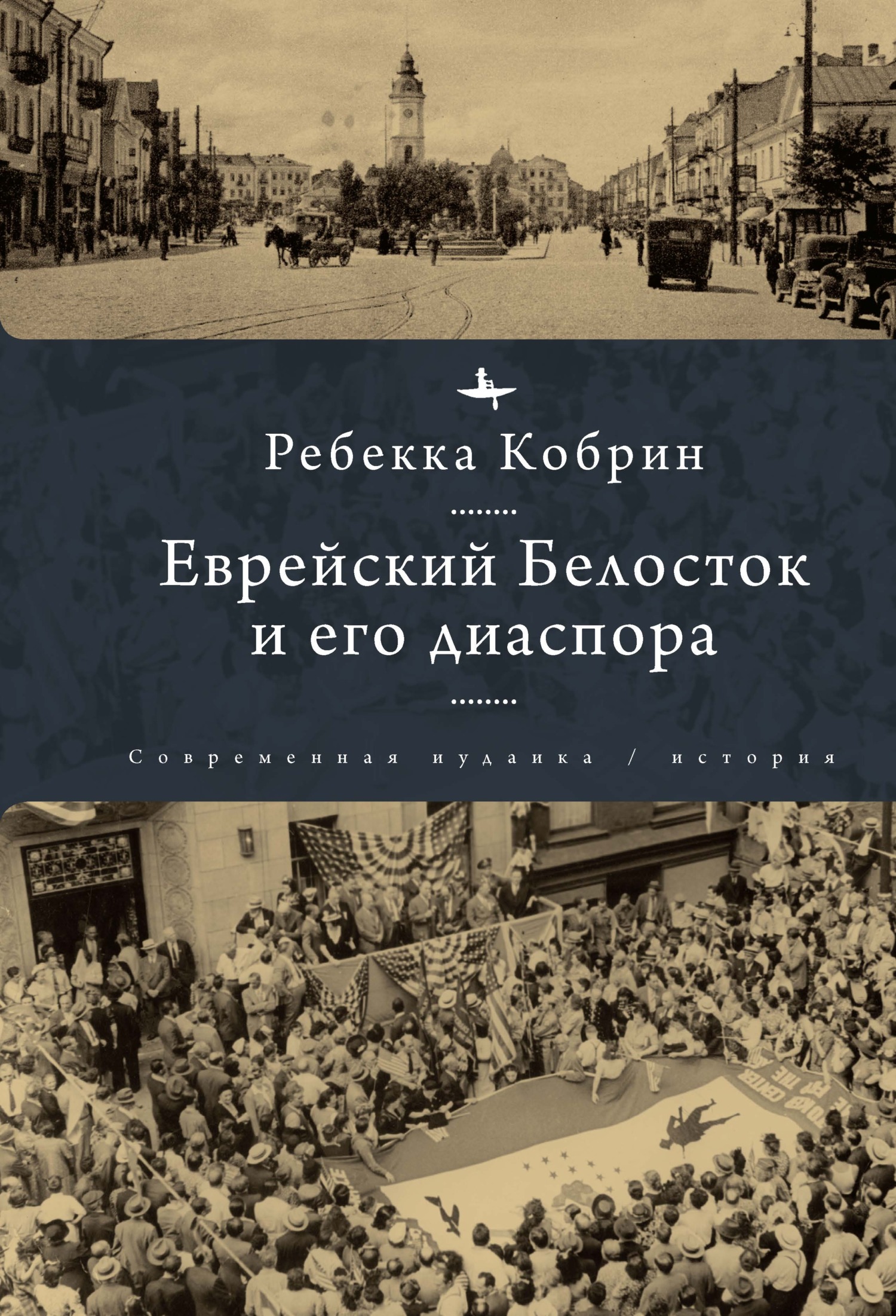для обозначения некоторого заблуждения в понимании капиталистических общественных отношений; этот термин определяет сам процесс социальной дифференциации внутри капитала как в фундаментальном и объективном смысле мистифицирующий, исключающий любое критическое понимание социального [484].
Я также пользуюсь термином «овеществление» для обозначения, с одной стороны, расиализированного, культурного превращения мусульманина в «другого» и нормализации и натурализации «нашего» секулярного, западного образа жизни, а с другой, для обозначения сохраняющегося влияния христианских моральных принципов на дискурс секуляризма. Понятие овеществления может также использоваться для понимания кооптации идеалов общественных движений (и, естественно, самих движений) на службу консервативной националистической повестке. Но я хочу использовать это понятие также с еще одной целью: для того, чтобы задаться вопросом о том, что приравнивание сексуальной эмансипации к гендерному равенству раскрывает в категориях современного дискурса секуляризма.
В риторике эмансипации и равенства меня прежде всего интересует то, как сексуальное желание было отобрано (овеществлено) в качестве определяющей универсальной черты человека, заслонив все остальные атрибуты, такие как голод, духовность или разум. Эли Зарецки указывает, что в ХX веке поворот к сексуальности предложил такую критику капиталистического общества, которая постулировала «естественную жизнь мужчин и женщин вне господства общества» [485]. Нечто подобное можно найти в работах Вильгельма Райха, Нормана О. Брауна и Герберта Маркузе. Эти идеи были подхвачены дискурсом секуляризма, который считает тех, кто наиболее способен реализовать свои желания (всегда в нормативных границах, которые я обсуждала выше), наиболее подходящими для гражданства; те же, в ком эти поступки воспринимаются регулируемыми или подавляемыми чуждыми культурными предписаниями, не соответствуют условиям отбора. Вместо равенства абстрактных индивидов (исторически кодировавшегося как маскулинное) мы сегодня имеем равенство сексуально активных индивидов (представленных женскими или женственными фигурами): агентность помещается не в занятом рассуждениями разуме, а в желающих телах.
У желающих тел есть материальность, которой лишен абстрактный разум, но секс в качестве естественного общего знаменателя человеческого начала, как и разум, тоже позволяет абстрагироваться от социальных факторов сознания и материальной жизни, а также, если рассуждать психоаналитически, от всех влияний (культурных, семейных, социальных, экономических, политических, юридических, религиозных и т. д.), которые (фантазматически) встроены в бессознательные аспекты желания и наделяют его артикуляцию историей. Секс также позволяет обойти вопрос о регулировании, присутствующем в артикулировании желания. Сама приписываемая ему свобода несет в себе ограничения, как указывал Фуко [486]. Более того, желание само по себе не делает людей равными; объяснения сексуального различия, постулирующего смысл мужественности и женственности, может вывести на очень разные — и неравные — пути к реализации.
Сексуальное самоопределение — фантазия в той же мере, что и рациональное самоопределение, но между ними есть одно отличие: одно подразумевает целый спектр различных воплощений, второе — единственное мерило исполнения. Если секс — синоним избытка и удовольствия, разум коннотирует дисциплину и контроль. Именно эти качества некогда ценились как выражение рациональности — регулирование и дисциплинированный самоконтроль, — а теперь разоблачаются как репрессивные инструменты исламского фундаментализма, даже когда мусульмане изображаются кровожадными террористами, лишенными морали и сострадания.
Риторика сексуальной эмансипации и гендерного равенства, бросающаяся в глаза в дебатах об «интеграции» мусульман в странах Западной Европы, указывает на более важные изменения в том, как дискурс секуляризма представляет человека. Когда они используются в господствующем дискурсе, эмансипация и равенство стирают различие частного и публичного и привносят в политическую сферу откровенную рыночную логику: рабочая сила заменяется на сексуальную, а освобожденная сексуальность имеет мало общего с требованием репродукции, обычно ассоциирующимся с гетеросексуальными парами. Люди — субъекты и объекты желания, одновременно и потребители, и товар, натурализированные в качестве таковых. Устранение различий между публичным и частным, выход на публичную арену ранее приватных чувств и практик секса не обязательно политизирует секс. Конечно, вопросы репродуктивных прав и признание сексуальности ЛГБТ — это сугубо политический вопрос, но в то же время сама идея, что секс — нечто естественное (и потому досоциальное), способствует деполитизации. Вопрос о том, что считать желанием, снимается с соревнования за его регулирование. Секс и желание, которое его выражает, теряет любые связи с социальными и культурными ценностями, которые его определяют; таким образом, сугубо западное понятие превращается в универсальное.
Различие между действием, мотивированным разумом, и действием, мотивированным желанием, в данном случае имеет первостепенное значение; это различие между политикой и рынком. Государство больше не регулятор, оно — фасилитатор интеракций желающих индивидов. Знак их эмансипации — свобода воплощать и стремиться к исполнению своего желания (в категориях разнообразия удовольствий и вкусов), на каком бы рынке они этим ни занимались [487]. Такое определение свободы не дает гарантии социального равенства — гендерного или какого-либо другого. Равенство отсылает только к имеющейся у любого индивида возможности действовать в соответствии с его желанием; психические, экономические или социальные пределы этого действия не принимаются во внимание, как и факт того, что то, что считается эмансипированным действием, оценивается в идеализированных западных категориях. И здесь снова полезно процитировать Нортон: «Сексуальная свобода, — пишет она (ссылаясь на Пим Фортин, но в комментарии, который можно применить шире), — стала не метонимией политической свободы, но заменой для нее» [488].
Я уже указывала на то, что использование языка сексуальной эмансипации и гендерного равенства для того, чтобы отказать мусульманам в признании их в качестве полноправных граждан национальных государств Западной Европы, во многих из которых они живут уже очень давно, — это не просто исламофобия (хотя, естественно, и она тоже), оно имеет более широкий резонанс. Замена абстрактного рассудка сексуальным желанием заменяет работу ума материальностью тела; абстрактный индивид становится пульсирующим, вожделеющим человеком. Но если и может показаться, что эта замена выводит социальное в область политики (как хочет внушить язык эмансипации и равенства), на самом деле это не так. Скорее вводится еще одно универсальное человеческое качество (сексуальное влечение, желание, сексуальные идентичности), которое понимается как досоциальное и чье удовлетворение — не относительный вопрос (определяемый исторически или культурно) и не вопрос, открытый для оспаривания (политика). Есть лишь один путь к удовлетворению: тот, который объявляется преобладающим в современных демократиях Запада — даже если в этих странах то, что считается удовлетворением, принимает множество разных и даже противоречащих друг другу форм и даже если отношения между полами продолжают оставаться асимметричными. Но противоречие сразу же устраняется, как только Запад сравнивается с Востоком, христианская секулярность — с мусульманской религиозностью. Когда эмансипация и равенство считаются синонимами и определяются как выражение универсального и овеществленного сексуального желания, они ничем не отличаются от формального политического равенства. Здесь мы можем вернуться к своеобразному варианту марксовской критики: это инструменты увековечивания подчинения и неравенства женщин на Западе, равно как и обездоленных меньшинств, в данном случае мусульман, и их продолжающейся маргинализации в секулярных и христианских демократиях Запада.