«Древний восточный книжник уважает труд и глубоко презирает праздность» [4, с. 158], и подтверждение тому — горькие упреки отца сыну: «Ты, бродящий без дела по людным площадям» и восхваление им трудолюбия и усердия как единственного пути к успеху и благополучию, включающее даже элементы «соревнования»: «Твой товарищ, твой соученик — ты не сумел его оценить. Почему ты не стараешься его превзойти?» [68, с. 28–30]. Неутомимыми «тружениками» предстают боги и цари, а жизнеописания египетских вельмож изображают их только в «трудах» — военачальниками в походах, царскими администраторами в номах, управляющими в своих хозяйствах и т. д., причем эта «трудовая», деятельная сторона их жизни покрывает ее полностью, без «остатка» [62, с. 57 и сл.]. Но не противоречит ли такому выводу о признании древневосточным человеком трудолюбия позитивной ценностью известное ветхозаветное речение: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю», нередко интерпретировавшееся как выражение отрицательного отношения древневосточного человека к труду. Однако любое высказывание должно быть рассмотрено в общем своем контексте (см. гл. VII), смысл которого, в данном случае, как раз наоборот, в утверждении, что сотворенный Йахве первочеловек стал человеком лишь тогда, когда он вкусил от «дерева добра и зла», когда его уделом стали рождение в муках и смерть, Любовь и труд. Поэтому автор книги «Экклесиаст», провозгласивший относительность многих ценностей, не сомневается в позитивной ценности труда и трудолюбия:
Сей семена с утра и руке до вечера не давай отдохнуть,
Ибо ты не знаешь, что удастся — то или это,
Или то и другое равно хорошо
[99, 651; II, стк. 6].
В древнеегипетской, шумеро-вавилонской, ветхозаветной и других системах моральных ценностей и норм трудолюбие предстает одной из высших ценностей. Труд, преимущественно как занятие животноводством и земледелием, признается высшей моральной ценностью и нормой также в зороастризме: «Творец создал тебя для (доли) скотовода и мирного пастуха» [П8, 2, с. 61; 29, 6].
«Главная доблесть персов — мужество», подчеркивает Геродот (I, 136), и, как бы подтверждая сказанное отцом истории, Дарий I с гордостью говорит о себе: «Как военачальник я — отличный военачальник… как всадник я — отличный всадник. Как стрелок из лука я — отличный стрелок из лука…» [118, 2, с. 37]. Вполне возможно, что в других древневосточных системах моральных ценностей и норм оппозиция «доблесть — трусость» не занимает столь высокого места, как в зороастризме, но проявленная в военных походах отвага и доблесть отмечается в жизнеописаниях египетских вельмож Древнего и Нового царств: Пиопинахт (XXIV–XXIII вв. до н. э.) сообщает: «Я обратил в бегство и уничтожил людей среди них вместе с отрядом войска» [118, 1, с. 27], а тысячу лет спустя Яхмос скажет о себе: «Я был храбр» (там же, с. 63). Важнейшие достоинства Гильгамеша — его отвага и храбрость, которые считаются также свойствами, отличающими праведника от нечестивца, ибо: «Нечестивый бежит, (когда) никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев» (Пр. 28, 1).
Важными позитивными качествами признавались скромность, кротость и смирение, которым противостоят негативные — высокомерие, гордыня и строптивость. «…Я не гневался!., я не был груб с другим!., я не надменничал!… я не отличал себя от другого!», — говорится в «негативной исповеди» 125-й главы «Книги Мертвых» [99, с. 72–73], содержащей формулы, произносимые умершим, его ка перед судом Осириса, и соответственно этой этической норме «Поучение Птахотепа» призывает:
Ученостью зря не кичись!
Не считай, что один ты всеведущ!
[99, с. 95].
Эти же пороки осуждаются в вавилонских текстах Шурпу («Сожжение»), содержащих заклинания, молитвы и указания относительно порядка совершения магических обрядов над больным. В них сказано: «[(Кто) на равного себе] пальцем указал… [К] старейшему (он полон) пренебрежения, к старшему брату (он полон) ненависти» [60, с. 104; стк. 6, 35], а «Вавилонская теодицея» утверждает губительность гордыни и строптивости и провозглашает благость смирения:
Взгляни на красавца — онагра в долине, —
Строптивца, что нивы топтал, — стрела опрокинет.
На льва посмотри, губителя стад, о котором ты вспомнил, —
За преступления, что лев совершил, ему уготована яма…
Путями, что эти идут, пойти и ты желаешь?
Лучше ищи благосклонность бога!
[122, с. 237; VI, стк. 59–66]
Резкое осуждение высокомерия и гордыни и восхваление смирения и кротости пронизывают всю книгу Иова, в которой в ответ на призыв жены восстать, протестовать против вопиющей несправедливости, проявленной по отношению к нему, Иов вопрошает:
Приемлем мы от бога добро —
ужели не примем от него зло?
[99, с. 567; 3, стк. 9 — 10],
утверждая тем самым безусловный примат смирения и покорности, особенно в сочетании с правдивостью и в противопоставлении лжи.
«…Я не лицемерил!.. я не лгал!.. я не был глух к правой речи!», — заверяет в упомянутой «негативной исповеди» представший перед судом Осириса [99, с. 72], ибо ложь, неправда это не только зло, но и нарушение того миропорядка, в основе которого лежит маат (см. главу IV). Именно поэтому ложь признается одним из видов зла, отвращающих Разочарованного от жизни:
Кому мне открыться сегодня?
Нет справедливых,
Земля отдана криводушным?
[99, с. 99].
В заклинаниях Шурпу резко осуждается тот, у кого
Уста его прямы, сердце его — неверно,
Уста его (говорили) «да», сердце его — «нет»;
(Кто) всегда говорил неверное,
(Кто) праведного (?) преследовал?..
[60, с. 105; стк. 55 — 58J,
а в «Вавилонской теодицее» говорится о том, что ложь не долговечна:
Завидовал ты процветанию плута? —
Прыть его ног исчезнет скоро!
[122, с. 239; XXII. стк. 235–236]
Геродот сообщает о персах, что для них нет ничего более позорного, чем лгать (I, 138), а Дарий I о себе говорит, что «по воле Ахура-Мазды я — такого нрава, что для правдивого я друг, для несправедливого я — недруг» [118, 2, с. 37].
В современной научной литературе нередко встречается противопоставление античного мира как мира радости древневосточному миру — миру печали, скорби. Однако думается, что все сказанное выше — земная, не «потусторонняя» ориентация всей системы моральных ценностей и норм, признание здоровья и долголетия, труда и трудолюбия, отваги и правдивости позитивными ценностями и отчетливое порицание противостоящих им негативных свойств, не-ценностей — позволяет предположить, что и древневосточный человек был внутренне обращен к радости и отвращен от печали. Уже в шумерской поэме «Человек и его божество» печаль, страдание объявлены злом:
Слезы, печаль, тоска и отчаяние поселились во мне,
Страдание завладело мной, как человеком, чей удел — одни слезы.
Но затем бог услышал мольбы Страдальца и «Страдания человека он (бог) превратил в радость» [61, с. 139–140]. И. С. Клочков [61, с. 151] считает, что «в основе ценностной системы вавилонян лежал принцип активного удовольствия; цель жизни человека в личностном плане — получение наслаждений». Если немного смягчить категоричность такого утверждения и признать радость, наслаждение одной из позитивных ценностей, то его можно отнести также к древнему египтянину, многие скульптуры, рельефы и фрески которого пронизаны светлой радостью. Она также звучит в словах:
Не желает ли Истина (Маат)
В сердце своем опьянения?
Умасти миррой локоны Истины —
Пусть благополучие и здоровье будут с ней
[99, с. 97].
Даже сдержанный в прославлении земных радостей Экклесиаст в конце концов признает, что в отличие от многих мнимых «ценностей» радость обладает истинностью, особенно та, что дается трудами рук своих:
Я увидел: нет большего блага, чем радоваться своим делам,
Ибо в этом и доля человека…
[99, с. 642; стк. 22]
«…Я не пустословил!… я не был тороплив в сердце моем!… я не был болтлив» [99, с. 72–73], — заверяет предстающий перед судом Осириса, отмежевываясь от тех качеств, что признаются выражением и проявлением глупости, а в «Поучении Птахотепа» сказано:
Как изумруд, скрыто под спудом разумное слово.
Находишь его между тем у рабыни, что мелет зеоно
[99, с. 95].
В своем отчаянии невинный Страдалец из «Вавилонской теодицеи» обращается за советом и утешением к Другу. Тот в самом начале поэмы представлен читателю пли слушателю как «мудрый муж», который в диалоге со Страдальцем определяет его сетования как глупость:
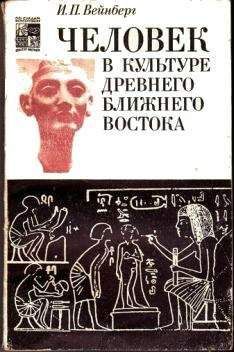




![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)