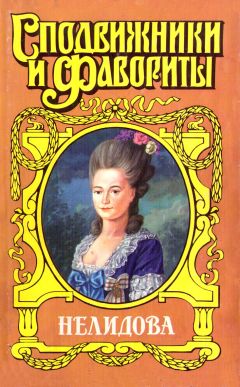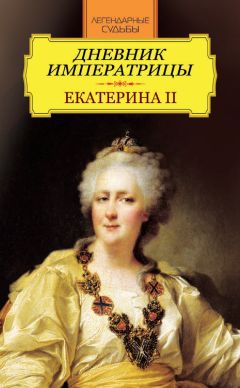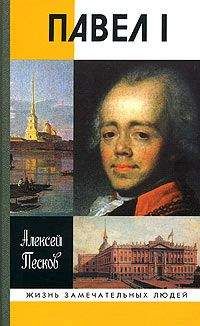— Его вдохновение мне подарил чудный образ Левицкого. Если разрешите, господа:
Раздвиглись стены и стократно
Ярче молний пролилось
Сиянье вкруг меня небесно;
Сокрылась, побледнев, луна.
Виденье я узрел чудесно:
Сошла со облаков жена,
Сошла — и жрицей очутилась
Или богиней предо мной.
Одежда белая струилась
На ней серебряной волной;
Градская на главе корона,
Сиял на персях пояс злат;
Из черноогненна виссона,
Подобный радуге, наряд
С плеча десного полосою
Висел на левую бедру;
Простертой на алтарь рукою
На жертвенном она жару
Сжигая благовонны маки,
Служила вышню божеству,
Орел полунощный, огромный,
Сопутник молний торжеству,
Геройской провозвестник славы,
Сидя пред ней на груде книг,
Священны блюл ее уставы;
Потухший гром в когтях своих
И лавр с оливными ветвями
Держал, как будто бы уснув.
Сафиросветлыми очами,
Как в гневе иль в жару, блеснув,
Богиня на меня воззрела.
Пребудет образ ввек во мне,
Она который впечатлела!
"Мурза! — она вещала мне. —
Ты быть себя счастливцем чаешь,
Когда по дням и по ночам
На лире ты своей играешь
И песни лишь поешь царям.
Вострепещи, мурза несчастный,
И страшны истины внемли,
Которым стихотворцы страстны
Едва ли верят на земли:
Одно к тебе лишь доброхотство
Мне их открыть велит. Когда
Поэзия не сумасбродство,
Но вышний дар богов, — тогда
Сей дар богов лишь к чести
И к поученью их путей
Быть должен обращен — не к лести
И тленной похвале людей.
Владыки света люди те же,
В них страсти, хоть на них венцы;
Яд лести их вредит не реже,
А где поэты не льстецы?"
…"Кого я зрю столь дерзновенну,
И чьи уста меня разят?
Кто ты? Богиня или жрица?"
Мечту стоящу я спросил.
Она рекла мне: «Я Фелица»…
— Фелица? Иными словами, Фелицитас — благодетельная богиня Счастья.
— Именно Счастья — в отличие от Фортуны. Фортуна всегда была суровой, Фелицатас — благой. С кадуцеем и рогом изобилия. Если вы решитесь повторить свою композицию, Дмитрий Григорьевич, вам непременно нужно будет написать рог изобилия.
— И чтобы из него лилось потоком злато как символ благополучия. Помнится, в Риме было несколько храмов Фелицы.
— И стояли статуи на Марсовом поле и на Капитолии.
— Какая счастливая находка, Гавриил Романович!
— Но эту находку подсказал мне Дмитрий Григорьевич. Это его представление о просвещенной монархине.
— Василий Васильевич, разве вы не хотите поделиться своими мыслями? Не могло же оставить вас равнодушным творение Левицкого! Но молчащий Капнист — это так необычно.
— Не вызывайте меня на откровения, Львов.
— Это почему же?
— Я не хочу вносить диссонанса в ваш слитный хор.
— Так, значит, картина не пришлась вам по сердцу?
— Полноте, полноте, Хемницер! Картина превосходна, другое дело — ее соответствие действительности. Хотеть учить царей — неблагодарное занятие, как бы вы ни старались подсластить пилюлю.
— Но государыня сама требует от своего окружения откровенности и изгоняет льстецов.
— По всей вероятности, неумелых. У государыни превосходный вкус, и она вправе рассчитывать на более тонкие кружева лести и высокопарных излияний. Возьмите хотя бы слишком многочисленных и слишком часто сменяющихся флигель-адъютантов.
— Василий Васильевич, Державин недаром написал: «Владыки света люди те же, / В них страсти, хоть на них венцы». Вряд ли мы вправе вторгаться в личную жизнь монархини.
— Но эта жизнь не безобидна для тысяч подданных.
— Флигель-адъютанты?
— Но ведь каждое назначение сопровождается дарением земель и людей, расточительством и обращением к казне. Неожиданно родившиеся начальники, ничего не понимая в своих новых обязанностях, губят любое дело, к которому бы ни прикоснулись. А впрочем, господа, я не намерен выводить вас из вашего сладкого неведения. Думаю, за меня это сделает жизнь.
* * *
Петербург. Васильевский остров. Дом Левицкого. В.В. Капнист и Левицкий.
— Вы оставляете столицу, Василий Васильевич?
— Я не думаю, чтобы кто-то, кроме самых близких друзей, посетовал на исчезновение Капниста. Но вас я отношу к своим прямым друзьям, Дмитрий Григорьевич.
— Что побудило вас к такому решению: ведь не женитьба же? Да и Александре Алексеевне, даме светской, не покажется ли скучной провинциальная жизнь?
— Нет, Дмитрий Григорьевич, Сашенька моя во всем со мной согласна. Она сама торопит меня с отъездом.
— Вы, по крайней мере, собираетесь обосноваться в Киеве?
— Не приведи Господь! Только в моей милой Обуховке! Это истинный земной рай, тем паче для молодых супругов.
— Но не этот же рай подвиг вас на подобное решение? Я уверен, что нет. Уж не нападки ли на вас, как на автора «Сатиры первой и последней»? И вы придаете значение людской хуле и похвале? Это так на вас не похоже! Не вы ли писали о мирском маскераде, за ветошью которого скрываются самые низменные чувства?
— Именно потому что писал, я начал чувствовать отзвуки недовольства вашей Фелицы.
— Вы не преувеличиваете?
— Нисколько. Мне были переданы слова государыни, что нельзя все российское общество представлять в виде взяточников и казнокрадов, тем более что некоторые из высоких чиновников приняли сии рассуждения за намеки на свой счет. Судья Драч в их числе был оскорблен и потребовал немедленной сатисфакции. Я не боюсь его гнева, но не хочу подвергать его действию Александру Алексеевну, тем более что родители ее со мною ни в чем не соглашаются.
— Мне сказывал Николай Александрович, вам и ранее приходилось прилагать немалые усилия для поддержания в мире родственников.
— Ему ли не знать! Ведь когда родители Марии Алексеевны и Сашеньки отказали после неудачного предложения ему от дому, то и от меня потребовали, чтобы я всякие сношения с ним прервал.
— Знаю, вы отвергли сей ультиматум.
— Отверг с негодованием, и тогда мне пригрозили разрывом помолвки с Сашенькой. Сашенька была в отчаянии и умоляла подчиниться родительским требованиям хотя бы временно и внешне. Я не захотел оскорблять своего с Львовым дружества, и, в свою очередь, объявил, что согласен отложить свадьбу. Даже сам Львов просил меня так не делать. Но дружество ставлю я превыше всех светских требований и условностей.
— Позиция ваша достойна всяческого уважения.
— Теперь родители Сашеньки вновь пугают ее, бедную, а я хочу положить конец их влиянию на дочь.
— Но что могло их напугать, когда ваша «Сатира первая и последняя» напечатана в «Собеседнике любителей российского слова»? Ведь сама государыня печатает свои сочинения в этом журнале княгини Дашковой. Княгиня, как довелось мне портрет ее сиятельства писать, рассказывала.
— Только того княгиня не договорила, что государыня и Екатерине Романовне недовольство свое высказала.
— Быть не может!
— Еще как может. Да у княгини нрав крутенек — в спор с государыней вступила, доказывать стала, а все неприятность. Раз на раз не приходится. Сегодня княгиня так посмотрит, завтра же — кто знает…
— Писать более не хотите?
— Напротив. Писать много собираюсь. Комедия одна у меня задумана о крючкотворах. Посидеть над ней в тишине да спокойствии надо.
— Слыхал я, ода у вас новая, Василий Васильевич.
— А у меня она с собой. Хотите прочесть дам?
— Сделайте милость. Пока-то ее напечатанной увидишь.
— Пожалуй, не увидите, Дмитрий Григорьевич.
— Что так?
— Гаврила Романович усиленно советует повременить. Тоже последствий всяческих опасается.
— О чем же ода, если не секрет?
— Если и секрет, то не от вас. Слыхали ведь, ее императорское величество указ подписала, чтобы всем малороссийским крестьянам в крепостном состоянии быть.
— Слыхал и душевно скорблю. Видеть нашу Малороссию закрепощенной! Так и кажется, умолкнут теперь наши песни, кончатся гулянья да ярмарки…
— Может, так сразу и не умолкнут, а горе для людей наших — страшное. Не знаю, правда, нет ли, будто Александр Андреевич Безбородко к тому причинился.
— Да, такого при графе Кириле Разумовском не случилось бы. Он бы государыню уговорил.
— Которую государыню? Елизавету Петровну?
— Так ведь мы в век просвещенный вступили.
— Только, выходит, человека обыкновенного в беде чужой убедить легче, чем просвещенного. У просвещенного и физиогномий на разные случаи жизни больше разных. Он к случаю да выгоде легче примениться может.