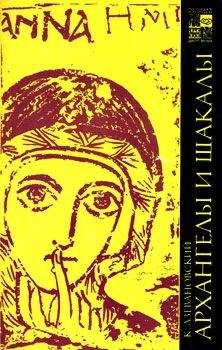– Нет никого ни среди суданских или египетских, ни среди иностранных специалистов, кто сумел бы это сделать!
Позднее, после моего отъезда из Нубии, в сентябре 1963 года, Газы приехал на Мейнарти, чтобы снять раскопанные Адамсом фрески. Это произошло на основании соглашения, заключенного суданскими властями с Польским центром средиземноморской археологии в Каире. Представляю, как радовался «парень из Аризоны»! Его открытия не погибнут под водой!
Теперь, когда я пишу эти строки, работа у Адамса тоже кончается. Не знаю, чем он займется в дальнейшем. Думаю, что он навсегда посвятит себя археологии. Во всяком случае, можно сказать, что нубийская кампания помогла ему осуществить то, о чем он всегда мечтал.
Меня пригласили затем в Гебель-Адду, где работает экспедиция Американского исследовательского центра в Каире под руководством доктора Николаса Миллета. Это те самые американцы, которые навестили нас в Фарасе и которых вечером на реке так подвела американская техника.
Гебель-Адда расположена уже на территории Египта и на противоположной от Фараса стороне реки. Сперва надо было добраться пароходом по Нилу из Вади-Хальфы в Баллану, где находится пристань. Большой пароход – целая гора, состоящая из палуб, решеток и балюстрад, из рода тех, что невольно вызывают в памяти представление о Миссисипи и «Хижине дяди Тома», – разрезая колесами воду, неутомимо прокладывает себе путь по всем извилинам Нила. Пейзаж не меняется: коричневатые горы, желтый песок, редкая зелень на берегу. Баллана – это всего-навсего несколько десятков глинобитных домиков, несколько лавчонок и типичная маленькая арабская кофейня: крыша, утрамбованный песчаный пол, несколько столиков и стульев. Пароход причаливает носом к берегу, и нужно сходить по узкому, шаткому трапу. На берегу множество детей, торговцы, десяток-другой зевак. Небольшая группа пассажиров высаживается на берег. Их немного, и если бы они выходили не спеша, по очереди, то все заняло бы не больше пяти минут. Но они немилосердно толкаются, тормошат и тянут друг друга, ругаются, упрашивают и взывают к аллаху, наступают друг другу на ноги, тыкают друг друга локтями в живот, хватают за полы галабий – ив результате высадка тянется целых полчаса. Словно предвидя все это, команда парохода сразу же начинает подгонять высаживающихся, осыпает их проклятиями и даже подталкивает, усугубляя этим хаос. Когда наконец после форменного боя все оказались на берегу, я с изумлением увидел, что высаживался не целый батальон, как можно было подумать, а едва лишь пятнадцать или шестнадцать человек. Высадившиеся покричали еще немного, поторговались с перекупщиками, а затем схватили свои вещи и исчезли. Пароход отчалил от берега, и я остался один, окруженный кольцом любопытных.
Я думал, что на берегу в Баллане будет полиция или пограничная стража: как-никак мы перешли границу и прибыли на территорию Египта. Но никого в форме не оказалось. Позднее я узнал, что полицейский участок находится лишь в Шеллале под Асуаном, где пароход заканчивает свой рейс. Здесь же нет никого. И, что еще хуже, не было также никого, кто говорил бы по-английски или мог бы сказать мне, где, собственно, находится Гебель-Адда и как туда добраться. Американцы были извещены о моем приезде, но на пристань никто не явился. Быть может, телеграмма не дошла! Связь работает здесь как придется. Что делать? Большая толпа любопытных, которая меня окружила вначале, поредела. Все еще не было никого, кто говорил бы по-английски. Из опыта моей журналистской работы и разъездов на мотоцикле (у меня некогда был мотоцикл, который порой шел, а порой не хотел двинуться с места) помню, что, когда не знаешь, что, собственно, предпринять, лучше всего присесть и закурить папиросу. Курение стоя не дает таких результатов. Я уселся поэтому на каком-то выступе и закурил. Прошло пять минут. Я перестал уже возбуждать любопытство, все, видимо, решили, что так и должно быть: приехал какой-то чужеземец, уселся и закурил, быть может, он будет сидеть так и курить до утра? Никогда нельзя с уверенностью сказать, что у чужестранца на уме! Когда я сидел так, мои мысли постепенно вошли в свою колею. Вот, подумал я, выкурю папиросу, а затем пройдусь но поселку, зайду в лавчонки, – наверно, найду кого-нибудь, кто говорит по-английски. Быть может, это будет какой-нибудь учитель, отставной военный или еще кто-либо в этом роде. Я сумею тогда узнать, что и как. Предстоит, видно, переночевать в поселке, а к утру что-нибудь решится. К счастью, я имел египетские деньги. Придется, скорее всего, нанимать фелюгу.
Как уже много раз в прошлом, этот прием с папиросой не подвел меня и сейчас. Кто-то вдруг слегка хлопнул меня по спине. Обернувшись, я увидел у своего уха знакомую улыбающуюся физиономию. Я вспомнил: Фарас! Это был инспектор-египтянин из Службы древностей, сопровождавший американцев в их экскурсии. Он выполняет роль связного между властями и Миллетом.
– Уже приехали? – воскликнул инспектор, искренне обрадованный.– Это очень хорошо, доктор Миллет послал меня за вами, сам он должен прибыть на моторной лодке, но его почему-то нет, но это неважно, поедем на фелюге, деньги у вас есть, может быть, суданские фунты, я обменяю их на египетские, не обращайтесь только к перекупщикам, это ужасные воры, зачем им давать, я все сделаю сам, но где у вас эти деньги?
Он трещал словно пулемет и, казалось, что ему нет никакого дела до чего-либо, кроме моих суданских фунтов. Но дело в том, что у меня не было никаких суданских фунтов. Зато у меня были египетские фунты, правда, они находились у меня несколько нелегально. Египетские фунты нельзя вывозить или перевозить через границу, я же вывез и привез их. Опрометью мчась в Фарас, я просто не мог уделить время всем мелочам и внести эти деньги в соответствующий пункт. Впрочем, совесть у меня была чиста. Ничего страшного ведь не случилось: я вывез их в Судан на короткое время и, не вынимая из кармана, привез обратно, поэтому с точки зрения общечеловеческой морали (если не считать соблюдения банковских правил одной из десяти заповедей) я был чист. Однако окажется ли инспектор, который как-никак был представителем властей, достаточно терпимым в моральном отношении? Я предпочел не посвящать его в замысловатую сферу противоречий между официальными предписаниями и моральными нормами. В конце концов я сказал, что фунты у меня есть, но спрятаны в чемодане, а поэтому не лучше ли отложить обмен до утра? Инспектор согласился, правда неохотно. Я почувствовал невольную антипатию к этому человеку, хотя он и избавил меня от необходимости сидеть на каком-то выступе в Баллане, в пыли, вздымаемой проходившими мимо ослами. Впоследствии я убедился, что в нем нет ничего несимпатичного, а просто он ужасный болтун. По образованию он был археологом, хотя ему пришлось стать чиновником, о чем он, впрочем, вовсе не жалел.
Теперь дело пошло живее. Инспектор крикнул – и словно из-под земли выросли два оборванца, которые схватили мои вещи. Затем инспектор крикнул еще раз – и снова появились двое других бродяг, которые вели за собой двух упирающихся изо всех сил ослов. Широким жестом инспектор пригласил меня сесть на спину одного из ослов.
Я попытался возражать:
– Насколько я понял, мы собирались плыть на фелюге?
– О, да, да, но сперва нужно подъехать к фелюге. А до нее километра три. Прошу садиться.
Три километра на осле! Неумолимо, словно в классической трагедии, мы приближались друг к другу: упирающийся всеми четырьмя ногами осел и я, упирающийся только двумя, но использующий также свой дар речи.
– Ах, нет, – твердил я, – это не нужно. Три километра – это пустяки. Я даже рад прогуляться, я насиделся достаточно на пароходе, погода хорошая, стало несколько прохладнее (на самом деле стояла ужасная жара), прогулка лишь пойдет мне на пользу. Если вам хочется, поезжайте, а я пойду сзади.
Но не тут-то было. Инспектор приглашал изо всех сил и чуть ли не подсаживал меня на осла. К нему присоединился погонщик, смекнувший, что я отпираюсь, а поэтому у него ускользает случай подработать. Он усердно подталкивал осла в мою сторону, пиная его ногами и подхлестывая палкой. У меня было такое впечатление, что инспектор охотно проделал бы то же самое и со мной. Вдобавок погонщик обрушил на меня целую лавину слов, твердя, что нет на свете лучшего животного для верховой езды и нет большего удовольствия, чем езда верхом на осле. Наконец инспектор прибег к решающему аргументу:
– Наверное, боитесь прокатиться верхом на осле? Не бойтесь. Он кроток!
Что такое? Я боюсь проехаться на осле? Я, который приехал в Нубию, чтобы писать о международной спасательной кампании, и ради достижения этого не побоялся предстать перед самыми высокими должностными лицами в правительственных учреждениях? Знаешь ли ты, болтливый инспектор, каково преодолеть страх перед высокопоставленными лицами? А я должен бояться какого-то осла?