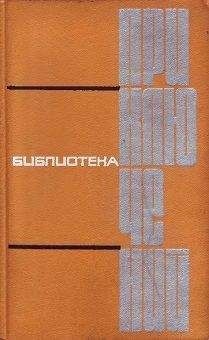Мы нигде - ни в мемуарах Грузенберга, ни у Марголина, ни у Мазе, ни у Бен-Цион Каца - не можем найти ответа на этот вопрос. Однако простой здравый смысл нам его подсказывает. Предположим, что защита рискнула бы заявить: "Это не ритуальное убийство, это грубая подделка!" - и таким образом присяжные получили бы пищу для размышлений и дискуссий: "Ага, значит они признают, что было что-то похожее на ритуальное убийство, только оно было сделано так топорно, что не могло быть работой самих евреев".
Следовательно нужно предполагать, что имеются некоторые правила таких убийств, и медицинским экспертам в этом случае был бы поставлен вопрос: "На сколько данное убийство расходится с "обычной нормой"?". Мы можем себе представить каков был бы эффект, если бы защитники сказали медицинским экспертам: "Пожалуйста, объясните присяжным, в какой мере эта грубая попытка симулировать ритуальное убийство отличается от такого, которое вы бы считали подлинным?!"
Эксперты главным образом обсуждали вопрос о выцеживании "максимального количества крови"; иначе говоря, старались ли убийцы протянуть жизнь Ющинского как можно дольше, нанося ему раны только необходимые для получения крови? При таких условиях, произнести слова "ритуальное убийство" для научного обсуждения было бы со стороны защиты крайне неосторожно.
И все же, читая стенографический отчет этого процесса, хочется крикнуть участникам этой драмы, происходившей пол века тому назад: "сделайте это, скажите открыто, вот каким образом Кровавый Навет всегда повторялся из века в век; вот классический пример как эта великая ложь всегда (223) воскрешалась, и вы, русская администрация и прокуратура только последние в длинном ряду провокаторов".
Карабчевский, единственный из всех адвокатов, упомянул в своей речи, что убийство Ющинского должно было служить прологом к погрому, но и он избегал слов "ритуальное убийство". "Знаете, сказал он в своем заключении, владельцы гостиниц на курортах говорят о "шелковых и ситцевых сезонах" т.е. сезоны когда приезжает богатая и аристократическая публика, или те, что приезжает всякая мелкота. Вот и у шайки Чеберяк тоже был свой "шелковый" сезон, а потом наступил "ситцевый" - погромов не было и их положение стало шатким".
Это была многозначительная ссылка на киевский погром 1905 г., когда Чеберяк (как было раскрыто на процессе) должна была сжигать тюки награбленного во время погрома шелка. Всем было хорошо известно, что в качестве классического приема для возбуждения погрома лучше всего было поднять крик о ритуальных убийствах.
Грузенберг, в заключительной своей речи только мимоходом коснулся возможности, что была сделана попытка симулировать ритуальное убийство. Остальные защитники тоже не касались этой темы; говоря об убийстве, они сосредоточились в своих речах на невиновности Бейлиса.
Тут весь вопрос заключался в полной очевидности этого дела. Картина, представленная прокурорами, была воистину смехотворна: среди бела дня, большая группа детей игравших вокруг глиномешалки, внезапное появление Бейлиса и его сообщников, и похищение ими Андрюши...
"Представьте себе, что это действительно случилось, воскликнул Маклаков", возможно ли, чтобы дети ничего об этом не сказали своим родителям? государственный прокурор торжественно заявляет, что он не знает, почему никто из них ничего не сказал; а я вам скажу почему: потому что ничего подобного не произошло, весь рассказ выдумка Чеберяк! - если бы Андрюшу утащили на глазах всех этих детей, а его труп позднее был бы найден на Лукьяновке, вся Лукьяновка поднялась бы, все эти смиренные люди поднялись бы как (224) один человек, и ничего бы не осталось ни от зайцевского завода, ни от Бейлиса, и не было бы процесса".
Затем Маклаков обратился к последним минутам умирающего Жени Чеберяк и к поведению его матери: "Несчастная Чеберячка не могла думать о спасении своего сына или о его спокойствии, она не могла крикнуть сыщикам: "уходите отсюда тут смерть, тут Божье дело!" Она не могла этого сделать, даже в эту последнюю минуту она должна была использовать своего сына: "Женя, скажи им, что я тут не при чем". А что Женя ответил? "Мама, оставь меня в покое, мне больно". - Он не сказал того, что было так легко ему сказать: "Я видел как Бейлис утащил Андрюшу". Когда он хотел говорить, эта несчастная мать - как показали свидетели - целовала его и не давала ему говорить. Перед его смертью она дала ему поцелуй Иуды, чтобы не дать ему сказать слова".
Можно было почувствовать, как при этих словах дрожь пробежала по спине у присутствовавших в зале суда.
После Маклакова говорил Грузенберг. Он был в таком же трудном положении как раввин Мазе; единственный еврей среди защиты, он был в некотором роде символом. Он чувствовал, что представляет здесь свой народ; он должен был оправдываться, доказывать свою любовь к России, и как еврей, он должен был дать свое опровержение КРОВАВОГО НАВЕТА.
"Я говорю громко и ясно, зная, что эти слова станут известны всем евреям во всем мире: если бы учение еврейской религии было таковым, как его тут описывали, я не позволил бы себе оставаться евреем". - Вечные, безнадежные объяснения... всегдашнее положение еврея перед никогда не доказанным обвинением (и поэтому трудным для опровержения); но игнорировать это обвинение все же невозможно.
Грузенберг боролся с противным ветром; чем красноречивей он говорил, тем более ненужными казались его слова: "Обвинения, которые они извлекли из могил тащат нас в ту же могилу; из тысячелетних, давно развалившихся и рассыпавшихся кладбищ, они воскресают те же обветшалые обвинения...".
Все это было конечно и справедливо и трогательно, но как (225) всегда и всюду, излишне для тех, кто хочет слушать, и пустая трата слов для тех, кто слушать не хочет.
Только когда он приступил к прямой защите Бейлиса, Грузенберг мог развернуть свой талант, и если у него было меньше простоты чем у Маклакова, то в логике и иронии он ему не уступал.
Но когда против Бейлиса не было улик, как было их опровергать? Грузенбергу пришлось пустить свои стрелы как против обвинителей так и против Чеберяк. Он поставил несколько прямых вопросов: "Почему, если человеческая кровь была необходима для освящения синагоги, власти не привлекли к суду и Зайцевых?" "Если Шнеерсон завлек Андрюшу на погибель, почему и он не сидит на скамье подсудимых?" - "Г-н Шмаков предоставляет вопрос о виновности Бейлиса совести присяжных, если они решат, что убийство это носило ритуальный характер; это значит, что Г-н Шмаков считает, если Бейлис и не виновен, то евреи все-таки виновны?!"
Грузенберг, с убийственной точностью, анализировал улики, представленные четой Чеберяк. Но каково бы ни было наше интеллектуальное удовольствие от внимательного чтения речи Грузенберга, мы не можем отделаться от тяжелого чувства, что все адвокаты Бейлиса или ломились в открытую дверь, или же ударялись головой о каменную стену, как только вопрос касался ритуального убийства.
После Грузенберга говорил Зарудный. Речь его производит странное впечатление; он, который так бурно себя вел во время перекрестного допроса, так язвительно комментировал всю процедуру и поведение судьи, вдруг стал очень сдержан и рассудителен. К сожалению, он решил возражать Шмакову в качестве авторитета по иудаизму; с этой целью он несколько месяцев изучал еврейскую историю, и в частности все кровавые наветы на протяжении веков. Несмотря на его большие способности, его нельзя было назвать экспертом в еврейской религии; для присяжных он был слишком образован, а на специалистов производил впечатление дилетанта. Стало куда лучше, когда он, отложив книги в сторону, стал применять свой здравый смысл в своей критике представленного обвинителями "научного" материала.
(226) Зарудный был особенно хорош, когда он стал говорить о функциях и назначении суда: "В некоторой степени здание суда - это храм" сказал он - "в храме или церкви люди молятся за своих врагов, поэтому в таком месте необходимо быть беспристрастным. Господа присяжные, если кто-либо из вас когда-либо питал неприязненные чувства к евреям, не позволяйте этим чувствам влиять на ваш приговор; отбросьте от себя все лишние, ненужные, не относящиеся к этому делу чувства, освободите себя от всего, что наши законы, наши обычаи, наше неотъемлемое чувство справедливости запрещают иметь судьям".
Таким образом он просил присяжных отказаться от навязанной им роли, той роли, для которой администрация так тщательно их подобрала.
После речей защитников, во время возражений, не произошло ничего нового. Теперь оставалось только ждать заключения судьи Болдырева и его наставления присяжным заседателям - исход процесса в большой мере мог зависеть от одного и другого.
4.
В 11 ч. утра 28 октября судебное заседание возобновилось, чтобы выслушать заключение судьи и его формулировку обвинения, после чего присяжные удалились для совещания.