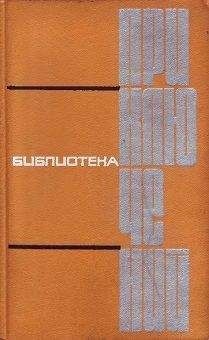4.
В 11 ч. утра 28 октября судебное заседание возобновилось, чтобы выслушать заключение судьи и его формулировку обвинения, после чего присяжные удалились для совещания.
День этот был бенефисом Болдырева. Для этого дня он и был назначен, и ему были обещаны награды; и поэтому его речь выражала двойное чувство: и надежду, и благодарность.
В. Д. Набоков дал позже характеристику этой речи: "По существу это была осторожно продуманная обвинительная речь; правда, он произнес какие-то тривиальные слова, чтобы соблюсти декорум, приличествующий председателю суда. Однако, это только ухудшило впечатление, так как эти слова как бы убеждали присяжных в справедливости и беспристрастности судьи".
Чтобы подчеркнуть свою беспристрастность, Болдырев указал присяжным, что они не обязаны соглашаться с его заключением, что они имеют полное право составить себе (227) собственное мнение о предъявленном здесь обвинении; но он не сказал ни слова, каковы могли быть веские основания, чтобы присяжным с ним не соглашаться.
Самая важная часть его аргументации касалась местоположения, где произошло убийство; для него не было никаких сомнений, что местом действий был кирпичный завод. Иначе говоря, он соглашался с искусственно созданным тезисом прокуратуры, что преступление могло быть совершено либо на квартире Чеберяк, либо на заводе, и он вывел из этого, что это было на заводе. Он сделал этот вывод основываясь на уликах, полученных от фонарщиков, от семейства Чеберяк, и главным образом основываясь на свидетельстве маленькой Людмилы, единственной, как им было подчеркнуто, оставшейся в живых очевидицей произошедшей сцены вокруг глиномешалки.
Чтобы подкрепить улики против Бейлиса, он даже сослался на арестанта Казаченко. Во всей двухчасовой речи Болдырева не было даже попытки парировать убийственную атаку Маклакова на поражающий своей неправдоподобностью рассказ маленькой Людмилы; Болдырев полностью игнорировал самый сильный аргумент защиты. Зато он вполне использовал решение защиты не касаться симуляции ритуального убийства, по тактическим соображениям. Болдырев сказал, что защитники не говорили о "симулированном" ритуальном убийстве потому, что это убийство было НАСТОЯЩИМ ритуальным убийством.
После того, как он произнес свою речь более похожую на речь прокурора чем судьи, Болдырев объявил, что присяжным заседателям будет поставлено два вопроса:
Первый вопрос: "Было ли совершено убийство такого-то и такого-то характера?"
Второй вопрос: "Был ли Бейлис и не найденные его сообщники виновны в убийстве?"
Окончательная формулировка этих вопросов получила видимость некоторой объективности; Болдырев согласен был оба вопроса конденсировать в одном, и предложил его в следующей редакции:
"Виновен ли подсудимый, (228) Менахем-Мендель Тевеевич* Бейлис, согласившись с неизвестными лицами, не найденными во время следствия, побуждаемый религиозным изуверством, в убийстве тринадцатилетнего Андрея Ющинского 12-марта 1911 г. в одном из помещений кирпичного завода, принадлежащего еврейской хирургической больнице, находящегося в заведовании купца Марка Ионова Зайцева?"
Формулировка вопроса заключала в себе два опасных пункта: первый, - что убийство произошло на кирпичном заводе, второй, что оно было ритуального характера. Но в этой формулировке было и преимущество для защиты; ею предполагалось, что было больше надежды на оправдание Бейлиса, чем на возможность для присяжных ответить отрицательно на отдельно поставленный вопрос о ритуальном убийстве. Поэтому защита готова было согласиться на единственный поставленный вопрос в то же время возражая на противозаконность его формулировки.
Прокуратура, наоборот, соглашалась с формулировкой, но требовала раздела вопроса на две части. После короткого перерыва, судья отклонил возражение защиты, и согласился с требованием прокуроров.
Но тут произошло нечто странное: разделив опросный лист на две части, судья выработал формулировку, ведущую (возможно, что и намеренно) к двусмысленным и нескончаемо спорным выводам.
Вот точный текст этого окончательного варианта:
Первый вопрос: "Было ли доказано, что 12 марта, 1911 г., в одном из помещений еврейской хирургической больницы, Андрей Ющинский был схвачен, ему зажат был рот и нанесены были раны (тут следует первый перечень всех ран), и когда из его тела вылилось 5 стаканов крови, ему снова нанесены были раны (тут следовал второй перечень ран), и что все эти раны (в общей сложности их было 47), причинили Ющинскому ужасные страдания и привели его к смерти, почти совершенно его обескровив".
Второй вопрос: "Если событие, описанное в первом вопросе доказано, то виновен ли подсудимый, Менахем-Мендель Тевиев Бейлис, согласившись с другими лицами, не обнаруженными во время следствия, побуждаемый религиозным (229) изуверством, в убийстве мальчика Андрея Ющинского? - И схватил ли обвиняемый находившегося там Ющинского, и увлек ли он его в одно из помещений кирпичного завода, для осуществления этого своего намерения?".
Остальная часть второго опросного листа была заполнена клиническими подробностями, перечисленными в первом вопросе.
Защита всеми силами сопротивлялась против раздела опросного листа на две части, и против этой пристрастной формулировки, но протесты эти были отклонены. Когда присяжные уже удалились для совещания, защитники пытались снова их вернуть, чтобы дать добавочные пояснения, но обвинители вмешались, и защитникам в их требовании было отказано. После этого уже больше ничего не оставалось, как ожидать решения присяжных.
5.
Чувства русского либерального общества были выражены В. Д. Набоковым в 1914 г. еще до разоблачения конспирации:
"Бейлиса судили присяжные. И первое впечатление, испытанное всеми решительно, было недоумение перед данным составом скамьи; присяжные судившие Бейлиса являли, картину глухого захолустья, обслуживаемого полуграмотными крестьянами и мещанами.
Во время процесса председатель не раз заявлял: "Здесь никто не обвиняет еврейство, здесь идет речь об отдельных изуверах". Однако, экспертизы Сикорского и Пранайтиса совершенно опровергают такое утверждение. И тот и другой говорят - и говорили на суде - именно о еврействе, о еврейском вероучении. И затем - в председательском резюме вся эта сложная работа над библией, талмудом, каббалой, зогаром, хасидами пропала совершенно. Единственный существенный вопрос, который можно было поставить именно с точки зрения ритуалистов, остался незатронутым. Никто и не заикнулся о том, доказано ли, что Бейлис - изувер. Психиатрической экспертизы над ним произведено не было. Духовный его мир остался вовсе не исследованным.
(230) Остался только во всей своей обнаженности силлогизм: Бейлис - еврей, и следовательно Бейлис мог участвовать в принесении этой кровавой жертвы.
Можно с полной определенностью указать ряд явных и несомненных процессуальных нарушений, допущенных с единственной целью - внушить присяжным веру в существование у евреев ритуальных убийств. Пройдут года, поблекнут воспоминания о деле Бейлиса исчезнет острота впечатлений, но отчеты, сухие и бесстрастные, стенографические отчеты останутся. И сколько бы лет ни прошло, будущий историк нашего суда, когда развернет страницы этих отчетов и прочтет в них "экспертизу", беспрепятственно допущенную председателем, - прочтет эти бредни, эти уверения, добытые из антисемитской литературы самого последнего разряда и преподнесенную под флагом научного авторитета профессора психиатрии, - он в изумлении спросит: как могло случиться, что председатель не остановил эксперта?
Правда, председатель неоднократно просил Сикорского обратиться к делу об убийстве Ющинского. Но эти просьбы не имели решительно никакого действия, эксперт не обращал на них никакого внимания и продолжал свое изложение так же, как начал его.
Отведенное мне место не позволяет с большей подробностью остановиться на других процессуальных нарушениях, допущенных по делу Бейлиса. Они находятся в тесной внутренней связи с самим духом процесса. И можно смело сказать: еще лет 10-15 тому назад такой процесс был бы невозможен".
(231)
Глава девятнадцатая
МИРОВЫЕ И МЕСТНЫЕ РЕАКЦИИ
Мы с удовлетворением вспоминаем протесты западного мира по делу Бейлиса. Это были последние проявления здравого смысла перед падением Европы в пропасть первой мировой войны. Они производят особенно благоприятное впечатление по сравнению с отдельными возгласами неодобрения по поводу гораздо более злодейского и преступного антисемитизма - гитлеровского нацизма конца тридцатых и начала сороковых годов.
Реакция на процесс запоздала не из-за равнодушия общества к происходящему, а из-за его недоверия к невероятному. Даже уже после того как процесс начался, находились люди, которые не верили, что русское правительство допустит инсценировку этого отвратительного фарса до самого конца.