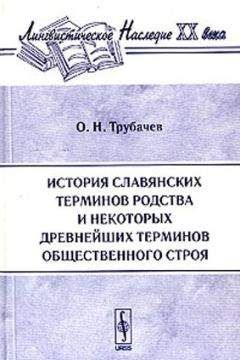Ознакомительная версия.
*Roka-(*Rauka-) «светлый», «белый», Rocas, Rogas, народ у Черного моря (Иордан), сюда же Roga-stadzans (Иордан), индоарийско-готский гибрид «белый берег», ср. *ruksa-tar– у нас, ниже.
*Roka-ba– «свет излучающая», Rhocobae, оппидум скифов-пахарей близ Канкита (Плиний), ‘Epκαβov, близ реки Каркинит (Птолемей), `Pακóβη, эмендировано из`Pακóλη, место, откуда произошли журавли (Стефан Византийский), ср. др.-инд. rocanám bhā– «излучать свет». Ср. греч. Λευκη άκτή «белый берег», о Сев.-Зап. Причерноморье, и след.
*Ruksa-tar– / *Rossa-tar– «белый берег», Rosso Tar, место на западном берегу Крыма (вторично Rossofar), итальянские карты XIV в., ср. др.-инд. ruksá– «блестящий» (с диал. ss<ks), сюда и Χρυσός Λεγόμενος, преобразованное греческое название берега от Днепра к Дунаю (Татищев I, 197) – др.-русск. Белобережье, название того же берега.
*Sindu– «(большая) река», Sinus = Tanais «Дон» (Плиний), ср. др.-инд. síndhu– «река», «поток», «море» – др.-русск. Синяя вода, о Доне[35], сюда же «синего Дону» («Слово о полку Игореве»), Синее море, «Азовское море»[36], «на синем море у Дону» («Слово о полку Игореве»).
*Ut-kanda– «отросток?», Tuκαvδειτωv, род. п. мн. ч. (Пантикапей, надгробие I в. н. э.), от местного названия *Τυκανδα, ср. др.-инд. Ut-khand, Utakhanda, местность при впадении реки Кабул в Инд, др.-инд. ut– «вы-», «из-», kānda «стебель» – др.-русск. Копыль, город (соврем. Славянск-на-Кубани), собственно, слав. калька – «побочный отросток», (ср. южнослав., болг. «копиле» – «побочный отросток»), первоначально о реке Протоке, ответвлении Кубани.
Собственно говоря, одной этой последней семантической пары индоарийского (синдо-меотского) *Ut-kanda «отросток» и местного же славянорусского Копыль, первонач. «(побочный) отросток», на наш взгляд, достаточно, чтобы сильно обесценить ходячее мнение об освоении славянской Русью Тмутаракани лишь с конца Х века. Наша лингвистическая изоглосса довольно реально и значительно удревняет условия, необходимые для ее формирования, – появление славянского этнического элемента, причем, заметим, в тылу у Тмутаракани, конкретно – к востоку от нее. Рассуждая, таким образом, вполне реально о контакте славянского языка и этноса с индоарийским северопонтийским эпохи упадка последнего, мы, естественно, вслед за этим и в связи с этим вправе заинтересоваться прямыми этноязыковыми следами раннего пребывания славянской Руси на этой юго-восточной периферии своего совокупного ареала. Ибо в том, что перед нами периферия этого ареала, сомневаться излишне.
В свое время мне пришлось вступиться за правильное понимание феномена старой этноязыковой периферии единого древнерусского ареала, каковой был новгородский Северо-Запад. Наша научная общественность к тому моменту явно поддалась соблазну отнести архаизмы Новгорода, а главное – их «похожесть» на западнославянские особенности, прямо и безоговорочно к западнославянским же проникновениям… Не стану повторять того, что сказано было мной по тому важному поводу, каждый интересующийся легко может найти и прочесть сам. Будучи убежден в том, что новгородский Северо-Запад представляет собой просто наиболее благоприятный и счастливый случай сохранности прежде всего богатой местной письменности (подаренное нам судьбой открытие берестяных грамот), я все эти годы невольно задумывался о других, по несправедливости судьбы умолкнувших, перифериях древнего русского языкового ареала, а также о возможностях реконструкции раннего состояния в этих труднейших условиях практического отсутствия местной письменной традиции. Эти раздумья и привели меня на путь поисков того, что осталось от Азовско-Черноморской Руси… Здесь пригодилась и определенная умудренность от конкретной работы с лингвогеографической тематикой: я имею в виду свою убежденность в том, что даже серьезное проявление языковой самобытности периферии еще не может само по себе служить сигналом ее инородного, скажем инославянского, происхождения (здесь опять приходит на память та преувеличенная суета вокруг якобы «западнославянской» природы древненовгородского диалекта, причем все это – с вопиющим игнорированием законов и типологии языковой географии)…
А осталось от древнего славянского Юго-Востока в целом немного. Вычтя сразу и целиком всю потенциальную собственную письменность, которая имела шансы возникнуть и получить развитие (ведь все-таки «история начиналась на юге»), мы и получим этот невеликий остаток: побочные традиции (византийские и восточные историки и географы, очень скудно – агиография, в том числе – славянская, мы обращаемся и будем к этому обращаться) и ономастика (топонимия, гидронимия и т. д.). Последняя мало исследована, поэтому может показаться, что в этом открытом, в основном степном, крае, где трудно укрыться зверю и человеку, трудно сохраниться и древнему названию. Но в этом расхожем мнении немало наивности и преувеличения. При всех бесконечных набегах и даже целых этнических передвижениях фронтальных переселений не было, немало существовало того, что можно обозначить как обтекание и сосуществование разных этносов.
Как мы видели, можно говорить о проявлениях весьма яркой преемственности даже там, где наша историко-археологическая communis opinio была решительно против. Одним из первых, может быть, самым первым, кто проявил настоящий интерес к этому «пустынному полю» как лингвист-историк и ономаст, был наш замечательный И.И. Срезневский. И он сразу много увидел и верно понял, а благодаря ему можем, кажется, понять и мы. Я имею в виду его работу «Русское население степей и южного поморья в XI – XIV вв.»[37]. Эта трудолюбиво написанная, проницательная статья могла бы заслуженно называться знаменитой, но, боюсь, сейчас ее уже никто не знает и к ней не обращается, как это почтительно делали Багалей в прошлом веке и Шахматов – в начале этого века. А ведь в своей публикации Срезневский еще сто тридцать с лишним лет назад показал нам, что Дикое поле «не было для русских Новым Светом», он говорит «о поселениях, родственных Руси, далеко на юге», рекомендует «всмотреться в названия местностей юга России, неизменно оставшиеся от веков очень далеких». Эти земли, отчужденные от Руси кочевниками, «не были никогда отчуждены от нее совершенно, были знакомы, будто свои. Очень многие из этих названий – русские по происхождению, славянские по смыслу и звукам»[38]. Русских названий – и притом древних – в этом надолго отторгнутом от славянской Руси крае много: «Всего не перечесть»[39]. Срезневский трезво схватывает эту перемежаемость русских названий с нерусскими, он понимает, что менее защищенные «должны были пропадать; но, сколько бы их ни погибло, нить преданий… не погибала». А дальше – заслуживает почти полного оглашения то, что не боясь ложной патетики можно назвать завещанием Срезневского, во всяком случае – в рамках нашей нынешней проблемы: «Таким образом, в нынешнем населении Южной России лежат следы элементов очень разнородных, – и между прочим, довольно древних элементов славяно-русских… Впрочем, такого общего заключения… без сомнения, слишком мало. Оно должно быть проверено подробными наблюдениями и исследованиями, в которых одинаковое право на участие принадлежит географу и этнографу, филологу и археологу. С другой стороны, они тем более желательны, что до сих пор только начаты, что остается темным, неизвестным, неподозреваемым многое такое, что важно не для одной пытливости науки, но и для жизни»[40].
Слова, высказанные в 1860 году, остаются и сейчас для нас не устаревшей программой, ибо основательное погружение в этот материал красноречиво показывает, сколь многое в нем было даже «неподозреваемо» для нас.
Наш обзор славянского ономастического материала в регионе не может не быть суммарным и выборочным, и выбор мы останавливали преимущественно на архаичных и локально ограниченных, в том числе эндемичных, образованиях. Поскольку ономастика своими путями сообщается с апеллативной лексикой, а через последнюю – с языком, как правило, языком более древним, это гарантировало нам определенные, пусть не самые богатые, возможности для заключений, характеризующих эту юго-восточную периферию древнерусского ареала. Во всяком случае, при скудности данных, имевшихся в распоряжении науки на сей счет, это давало дополнительные результаты.
Вначале – о славянских названиях Северного Приазовья. В качестве таковых могут быть выделены (с запада на восток): Молóшной Крек/Молочной Крюк (записи конца XVIII в., современная форма – Молочный Утлюк – показывает возможности позднейшей тюркизации), приток реки Молочной; основная форма тождественна русск. диал. кряк, крек, звукоподражательному по природе праславянскому слову[41], сюда же, далее, русск. диал. клек «лягушачья икра», а также Клекоток/Клекотока, речка в бассейне Верхнего Дона[42]. От лягушачьей икры, как и от ряски, назывались метафорически тихие, заболоченные речки. Обиточная/Обыточная, приток Азовского моря, ср. одноименная коса неподалеку (см. выше), далее – сюда Обыточка, приток Псла на днепровском левобережье, и другие случаи гидронима Обитóк ниже. Представляет глубокий интерес своим образованием от несохранившейся лексемы – вост.-слав. *обиток, праслав. *obitokъ[43]. Бéрдá, Бéрды мн., приток Азовского моря; обращает на себя внимание помимо морфологического разнообразия[44] также своим своеобразием семантики – близкие лексические значения «прóпасть», «яма» отмечены, прежде всего, в украинских карпатских говорах у этого обычного славянского названия ткацкого снаряда или метонимически (у южных и западных славян) – горного рельефа[45]. Свинорыйка, в бассейне реки Берды, представляет продолжение древней модели славянского сложения на -ryja, ср. Свинорье, в Верхнем Поднепровье[46], Черторой, Черторыя, польск. Czartoryja, Копорье, в основном – с западнославянскими ассоциациями[47]. Свидовáтая/Свидувата, в бассейне реки Берды, со связями, прежде всего, – в Поднепровье (Свидiвка, Свидiвок) и в украинских Карпатах (Свидник, Свидiвець), а также на Балканах, ср. укр. Свид Cornus sanguinea[48]. Витава, населенный пункт на берегу Азовского моря, западнее реки Кальмиус[49], весьма архаично по корневой принадлежности и славянскому словообразованию. Кáлка/Калки/Калъкъ/совр. Кáльмиус, приток Азовского моря, известнейшее по летописным данным место битвы 1223 года; целый «куст» славянского гидронимического словообразования, ср. сюда Кáльчик, приток Кальмиуса (он же – Калец, 1224 г.); налицо и вторичная тюркизация – сложение с тюрк. müjüz «рог» в «Кальмиус». Название Калúтвина (балка в бассейне реки Миус) связано с ярко эндемичным, исключительно донским гидронимом Калитва, ср. еще название горы Калитва на левом берегу Днепра, близ Орели[50], не первый случай в этом регионе славянского образования древнего вида, но без связей в известной нам нарицательной лексике. И названием балки Коровий брод (запись XVIII в.), между рекой Миус и рекой Дон, со славянской прозрачностью конструкции и типологическими аналогиями вроде Ox-ford, и Βόσ-πορος, мы заканчиваем немногочисленный, но весьма репрезентативный в отношении самобытности и древности образования ряд приазовских гидронимов и топонимов, в основном – из собрания Отина[51]. Можно разве что еще пополнить этот ряд в западном направлении, в пределах днепровского Левобережья, двумя топонимами древнего славянского вида – Перекоп, у Срезневского – Перекопь[52], возможная приблизительная калька реликтового индоарийского *кrtа – «сделанный (то есть – вырытый вручную)», примерно в том же месте, у основания Крымского полуострова, и др.-русск. Олешье, один из «заселенных притонов» у моря[53], которое с незапамятных времен – от геродотовской Гилеи (Ýλαία – «лесная») до нынешних Алешковских (!) песков – стойко донесло и сохранило образ этого «лесистого» пятачка среди окружающих всегда безлесных пространств.
Ознакомительная версия.