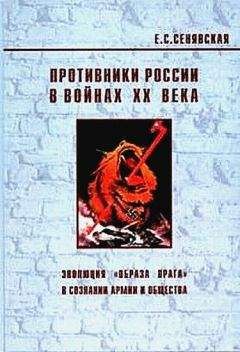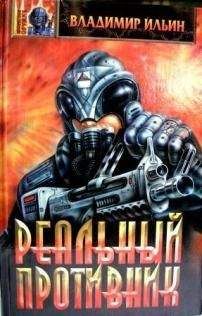Советская пропаганда, как правило, стремилась нарисовать крайне неприглядный образ финского противника. Даже на основании частично описанных выше материалов допроса капитана Э.Лайтинена, судя по которым, он проявил себя как заслуживающий уважения пленный офицер, в красноармейской газете «Боевой путь» в заметке под названием «Лапландский крестоносец» фронтовой корреспондент изобразил его карикатурно и зло. «Трижды презренный лапландский крестоносец», «матерый враг Советского Союза», «белофинский оккупант», «убежденный фашист», «шюцкоровец», «ненавистник всего русского, советского» — такими эпитетами он был награжден, причем даже слово «шюцкор» — то есть название финских отрядов территориальных войск — воспринималось в их ряду как ругательство. Впрочем, финны в своей пропаганде тоже не стеснялись в выражениях, говоря об СССР, большевиках, Красной Армии и русских вообще. В быту была распространена пренебрежительно-оскорбительная кличка «рюсси». Но это и не удивительно: для военного времени резкие высказывания в адрес противника являются нормой поведения, обоснованной не только идеологически, но и психологически.
Среди всех сателлитов Германии, пожалуй, лишь у Финляндии присутствовал элемент справедливости для участия в войне против СССР, который, впрочем, полностью перекрывался ее захватническими планами и политикой геноцида в оккупированных областях. При этом для финнов было характерно дифференцированное отношение к гражданскому населению занятых ими территорий по этническому принципу: распространены были случаи жестокого обращения с русскими и весьма лояльное отношение к карелам. Согласно положению финского оккупационного военного управления Восточной Карелии о концентрационных лагерях от 31 мая 1942 г., в них должны были содержаться в первую очередь лица, «относящиеся к ненациональному населению и проживающие в тех районах, где их пребывание во время военных действий нежелательно», а уж затем все политически неблагонадежные.[421] Условия содержания в этих лагерях, заключенными в которых были в основном женщины и дети, полностью подпадают под определение «преступлений против человечности». Так, в Петрозаводске, по воспоминаниям бывшего малолетнего узника М.Калинкина, «находилось шесть лагерей для гражданского русского населения, привезенного сюда из районов Карелии и Ленинградской области, а также из прифронтовой полосы. Тогда как представители финно-угров в эти годы оставались на свободе».[422] При этом к лицам финской национальности (суоменхеимот) причислялись финны, карелы и эстонцы, а все остальные считались некоренными народностями (вератхеимот). На оккупированной территории местным жителям выдавались финские паспорта или разрешение на право жительства — единой формы, но разного цвета, в зависимости от национальной принадлежности.[423] Проводилась активная работа по финизации коренного населения, при этом всячески подчеркивалось, что русское население в Карелии не имеет никаких корней и не имеет права проживать на ее территории.[424]
Таким образом, участники боевых действий с советской стороны имели достаточно оснований, чтобы видеть в финнах жестокого, коварного и опасного врага, преследующего агрессивные аннексионистские цели, попирающего нормы международного права и относящегося к «инородцам» как к «недочеловекам». Поэтому многие ключевые оценки противника, звучавшие в советской пропаганде, полностью соответствовали настроениям сражающейся с ним армии.
Выход Финляндии из войны в отражении финской и советской пропаганды
Радикальное изменение хода войны и очевидность ее перспектив к 1944 г. вынудили финнов к поиску такого мира, который бы не закончился для них национальной катастрофой и оккупацией. Разумеется, выход Финляндии из войны сопровождался определенными пропагандистскими акциями с обеих сторон. Для Финляндии он был вынужденным, осуществленным в результате побед Красной Армии над Германией и ее союзниками, под угрозой бомбардировок финских городов и советского наступления на финскую территорию. Финнам пришлось принять ряд предварительных условий, в том числе о разрыве отношений с Германией, выводе или интернирование немецких войск, отводе финской армии к границам 1940 г., и ряд других. Показательно, что мотивация вступления в войну и выхода из нее была практически противоположной. В 1941 году фельдмаршал Маннергейм вдохновлял финнов планами создания Великой Финляндии и клялся, что не вложит меч в ножны, пока не дойдет до Урала, а в сентябре 1944-го оправдывался перед своим союзником А.Гитлером за то, что вынужден вывести «маленькую Финляндию» из войны. В его письме говорилось: «…Я пришел к убеждению, что спасение моего народа обязывает меня найти путь быстрого выхода из войны. Общее неблагоприятное развитие военной обстановки всё более ограничивает возможности Германии предоставлять нам в нужный момент своевременную и достаточную помощь… Мы, финны, уже даже физически неспособны продолжать войну… Предпринятое русскими в июне большое наступление опустошило все наши резервы. Мы не можем больше позволить себе такого кровопролития, которое подвергло бы опасности дальнейшее существование маленькой Финляндии… Если этот четырехмиллионный народ будет сломлен в войне, не вызывает сомнения, он обречен на вымирание. Не могу подвергнуть свой народ такой угрозе».[425] Мания величия прошла. А лекарством от этой болезни послужило успешное наступление советских войск, отбросившее финнов к их довоенным границам.
Угроза поражения и ее последствий для Финляндии явились важным мотивом и в официальной мотивации выхода страны из войны, адресованной населению, хотя в пропагандистских акциях акценты были явно переставлены. Мотивируя выход из войны поражениями, с одной стороны, Германии и ее союзников на всех фронтах, а с другой стороны — июньским прорывом своей обороны на Карельском перешейке, премьер-министр Финляндии Хакцелль в своей речи по радио 3 сентября 1944 г. по вопросу о перемирии между СССР и Финляндией подчеркнул, что «…она осталась одна против во много раз превосходящего в военной мощи врага. В течение трех лет мы честно несли бремя братства по оружию с Германией, поскольку доблестная военная борьба отвечала до определенного момента интересам обороны нашей страны».[426] Таким образом, именно изменение международной обстановки и положения на театре военных действий признавалось финским руководством как главная причина выхода из войны.
Вместе с тем, в эту мотивацию для «массового потребления» вносились и определенные коррективы. В частности, провозглашалось «большое стремление нашего народа к миру».[427] В своем приказе в связи с прекращением военных действий и готовности Финляндии начать мирные переговоры с СССР от 7 сентября 1944 г., Маннергейм заявляет, что «…народ Финляндии может сохранить свою независимость и обеспечить свое будущее только при том условии, что будет стремиться к искренним и доверительным отношениям с соседними странами».[428] В действительности, Финляндия в сентябре 1944 г. фактически приняла ультиматум — либо согласиться на все советские требования, впрочем, весьма умеренные, хотя и включавшие территориальные уступки, либо столкнуться с неизбежной оккупацией страны. Как вспоминал премьер-министр Финляндии Э.Линкомиес, «сразу было ясно, что уже нет другой возможности, как только согласиться с условиями, какими бы тяжелыми они не представлялись».[429] В своей телеграмме от 18 сентября 1944 г. правительству Финляндии о ходе советско-финляндских мирных переговоров в Москве финский министр иностранных дел К.Энкель сообщил позицию Молотова: «…Если мы не подпишем документы, то можем возвращаться. Непосредственным последствием этого будет оккупация всей страны. Возможностей для возражения не было».[430]
Таким образом, отказ Финляндии от неоднократных, начиная с 1942 г., советских предложений о выходе из войны в иной военно-политической ситуации и на самых благоприятных для нее условиях, осенью 1944 г. привел к фактическому принятию ультиматума под давлением военной силы. Попытки финской стороны завуалировать этот вынужденный характер перемирия выглядели весьма неубедительными хотя бы потому, что правительство Финляндии приняло все предварительные условия Советского руководства. Восстанавливалось действие Мирного договора между СССР и Финляндией от 12 марта 1940 г. с изменениями, вытекавшими из Соглашения о перемирии.[431]
Военные поражения Германии и ее сателлитов к лету 1944 г. вызвали «падение морального духа как на фронте, так и в тылу Финляндии»,[432] о чем свидетельствовали захваченные советской военной разведкой письма финских военнослужащих. Такие выводы содержатся, например, в Информационном докладе начальника штаба УК БТ МВ 32-й Армии Карельского фронта, подполковника Киселева за июль 1944 г., где целый раздел посвящен анализу «политико-морального состояния войск противника». Вместе с тем, в том же документе отмечалось, что «хотя в финских войсках в последнее время и наблюдается значительное снижение политико-морального состояния, в результате чего увеличилось дезертирство и факты неподчинения приказаниям командиров, часть из солдатских писем, а также ряда показаний военнопленных говорят о том, что моральный дух финских войск еще не сломлен, многие продолжают верить в победу Финляндии. Сохранению боеготовности способствует также боязнь того, что русские, мол, варвары, которые стремятся к физическому уничтожению финского народа и его порабощению».[433] Во многом это состояние финских войск являлось результатом длительной и интенсивной антисоветской и антирусской пропаганды, внушения страха перед «варварами», опасения, что «…если Германия и Финляндия проиграют войну, финский народ ожидает физическое истребление». Так, весьма характерной является выдержка из захваченного советскими разведчиками письма неизвестного финского солдата: «…Больше всего я боюсь попасть в руки русских. Это было бы равно смерти. Они ведь сперва издеваются над своими жертвами, которых потом ожидает верная смерть».[434]