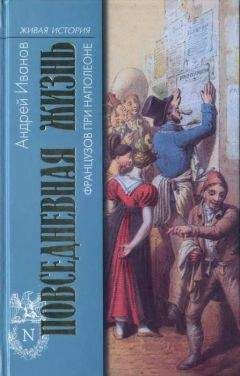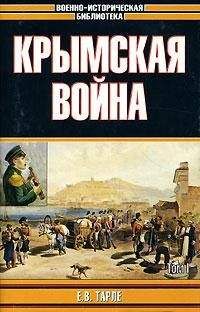А там, где был вождь, сотни тысяч крестьян требовали дать им оружие и даже привели императору две тысячи пленных. Партизаны перерезали вражеские коммуникации, перехватывали курьеров, истребляли отставших солдат противника.
Наполеон отказался от стихийной помощи. Он развернул армию, а сам помчался к столице с небольшой свитой. Император знал, что Мария-Луиза покинула Париж. Напрасно офицеры Национальной гвардии умоляли ее остаться, — она поддалась на уговоры Талейрана и Жозефа Бонапарта.
«В продолжение всего дня 30 марта, пока шел бой, на бульварах царило чрезвычайное оживление, — рассказывает Стендаль. — 31-го, около девяти часов утра, там уже толпились люди, как в те дни, когда хорошая погода привлекает множество гуляющих. То и дело слышались остроты по адресу короля Жозефа и графа Реньо[319]. Проехала кучка всадников, надевших белые кокарды и махавших белыми платками. Они кричали: “Да здравствует король!” “Какой король?” — спросил кто-то возле меня. О Бурбонах думали не больше, чем о Карле Великом. В этой кучке, которую я как сейчас вижу перед собой, было человек двадцать.
Вид у них был довольно смущенный. Они возбудили не больше внимания, чем любые гуляющие. Один из моих друзей, потешавшийся над их растерянностью, сообщил мне, что эта кучка составилась на площади Людовика XV и дальше сквера на улице Ришелье не добралась».
Настали черные дни победителя полусотни битв. Он видел огни вражеских биваков на берегу Сены.
Ставка Наполеона переместилась во дворец Фонтенбло. Император планировал собрать 70 тысяч бойцов и с ними двинуться на Париж.
Утром 4 апреля он провел смотр армии. Слово вождя было таким: «Солдаты, неприятель, опередив нас на три перехода, овладел Парижем. Нужно его оттуда выгнать. Недостойные французы, эмигранты, которым мы имели слабость некогда простить, соединившись с неприятелем, надели белые кокарды. Подлецы! Они получат заслуженное ими за это новое покушение! Поклянемся победить или умереть, отплатить за оскорбление, нанесенное Отечеству и нашему оружию!» — «Мы клянемся!» — ответили воины.
Наполеон вошел во дворец и увидел мрачные лица Удино, Нея, Макдональда[320], Бертье, Лефевра, герцога Бассано. Первые двое были особенно настойчивы в своем требовании отречения от престола. Правительство уже освободило военных от присяги Наполеону, и теперь приближенные ждали от него признания в том, что он более не император.
Наполеон покорился судьбе. Вначале он подписал отречение в пользу сына, а затем отказался и от этого условия.
Император сдался, но война не закончилась. Даву будет держаться в осажденном Гамбурге до мая, и его солдаты выйдут из крепости с высоко поднятыми головами. Столь же долго будет защищать Антверпен губернатор Карно.
Сульт принял бой при Тулузе, сражаясь против Веллингтона[321] и испанцев. «Вступление союзников в Париж не имело для нас решающего значения, — вспоминал один офицер. — Император был жив, и это было самое главное».
«Храбрые и милосердные жители Тулузы», как назовет их Сульт в своем приказе, активно поддержали армию. Студенты медицинского факультета Университета помогали раненым на поле боя и ухаживали за ними в госпиталях. Женщины приносили еду и питье.
Студенты и женщины с трудом справлялись с потоком раненых. Скоро все госпитали были переполнены, и ученики местной школы отдали раненым свои спальни. Когда и этого оказалось мало, жители стали брать пострадавших к себе домой. Среди студентов были погибшие.
Воины Сульта храбро оборонялись, нанесли врагу ощутимый урон, но вынуждены были отступить.
Небо Парижа было окрашено в свинцово-серые тона, когда царь Александр, сопровождаемый прусским королем[322] и Шварценбергом, главнокомандующим союзническими силами, въехал в город на белом коне.
31 марта. Десять часов утра. Через ворота Сен-Дени в столицу Франции входят десятки тысяч русских, немцев и австрийцев.
На окраинах, в предместьях — скорбь, настоящий траур. Люди говорят очень тихо, никаких приветствий не слышно.
Иностранные полки приближаются к центру города. Здесь живут другие люди, и характер встречи меняется. Один из свидетелей, Жильбер Стенже, написал: «Толпа бросалась чуть ли не под ноги лошадей, приветствуя монархов как “освободителей”… Самые бурные проявления чувств достались на долю императора Александра. Он улыбался толпе, выглядывавшим из окон молодым женщинам, махал им рукою… Прочие участники кортежа казались равнодушными к этому взрыву безумия, оставляя всю славу царю, ведь он вел самые многочисленные армии и более всех пострадал от наполеоновских войн… Мы увидели, как молодая и красивая графиня де Перигор с белым флагом в руке села на лошадь к какому-то казаку и последовала вместе с колонной».
«В Париже охотно машут платочками кому угодно и в ту минуту почти искренне», — отмечал Стендаль. «Я поднялся на широкий балкон ресторана Николь. Дамы восхищались молодцеватым видом союзников: их радость была беспредельна».
«Каждый, казалось, вернулся из Кобленца… Носовые платки и нижние юбки превращались в белые флаги», — вспоминала г-жа де Шатобриан.
Александр принял депутацию от Парижа. Он гарантировал безупречное поведение солдат союзнических армий: любое проявление насилия будет жестоко наказано, за порядком предписано следить Национальной гвардии, войсками будет испрошено лишь необходимое количество продовольствия.
Графиня де Буань рассказывала в своих мемуарах, что косматые, добродушные и голодные казаки позволяли ребятишкам влезать к ним на плечи. Оказалось, что страхи были напрасными и «варвары» вовсе не кровожадны. А ведь перед сдачей города воспитательницы престижного пансиона переодели девочек в мужскую одежду и спрятали их в укромные места!
Продовольствия победителям все же не хватало, и некоторые кварталы были разграблены. Солдаты Семеновского полка свалили наземь статую Наполеона, стоявшую на Вандомской площади. Перед этим царь, посмотрев на статую, сказал: «У меня закружилась бы голова, если бы меня поставили так высоко!..»
Александр не любил Бурбонов, но принимал бонапартистов. Он часто ездил в Мальмезон, где его встречала Жозефина. Царь флиртовал и с ее дочерью Гортензией.
Жозефина простудилась во время прогулки в открытой коляске. Она заболела воспалением легких и гнойной ангиной и умерла 29 мая.
— Эльба! Наполеон! — последнее, что она сказала перед смертью.
Царь присутствовал на ее похоронах вместе с многочисленной свитой.
«Восхищение французов царем было неописуемым, оно проявлялось во всем обществе, но особенно среди франкмасонов», — писал Михайловский[323].
Автор «Марсельезы» Руже де Лилль посвятил царю высокопарные, но дрянные стихи.
Французы были благодарны Александру за то, что он не потребовал выплаты контрибуции и возврата художественных ценностей, вывезенных Наполеоном из разных стран. Царь купил тридцать восемь картин, украшавших Мальмезон. Это обошлось ему в 940 тысяч франков.
Столичные рестораторы тепло принимали русских генералов и офицеров. Федор Глинка был в совершеннейшем восторге: «Я сейчас был в парижской ресторации и признаюсь, что в первую минуту был изумлен, удивлен и очарован. На воротах большими буквами написано: “Бовилье”. Вход по лестнице ничего не обещал. Я думал, что найду, как в Германии, трактир пространный, светлый, чистый — и более ничего. Вхожу и останавливаюсь, думаю, что не туда зашел; не смею идти далее. Пол лаковый, стены в зеркалах, потолок в люстрах! Везде живопись, резьба и позолота. Я думал, что вошел в какой-нибудь храм вкуса и художеств! Все, что роскошь и мода имеют блестящего, было тут; все, что нега имеет заманчивого, было тут. Дом сей походил более на чертог сибарита, нежели на съестной трактир (Restauratiori). Хозяйка, как некая могущественная повелительница в приятной цветочной рощице, среди множества подле, около и над нею расставленных зеркал, сидела на несколько ступеней возвышенном и ярко раззолоченном стуле, как на троне. Перед нею лежала книга, в которой она записывала приход и расход. В самом деле она в своей ресторации царица. Толпа слуг по одному мановению ее бросается в ту или другую сторону и выполняет все приказания. Нам тотчас накрыли особый стол на троих; явился слуга, подал карту, и должно было выбирать для себя блюда. Я взглянул и остановился. До ста кушаньев представлены тут под такими именами, которых у нас и слыхом не слыхать. Парижские трактирщики поступают в сем случае как опытные знатоки людей: они уверены, что за все то, что незнакомо и чего не знают, всегда дороже платят. Кусок простой говядины, который в каких бы изменениях ни являлся, все называют у нас говядиною, тут, напротив, имеет двадцать наименований. Какой изобретательный ум! Какое дивное просвещение! Я передал карту Б*. Он также ничего не мог понять, потому что, говорил он, у нас в губернских городах мясу, супу и хлебу не дают никаких пышных и разнообразных наименований: эта премудрость свойственна только Парижу. Отчего ж, скажешь ты, мы так затруднялись в выборе блюд? Оттого, что надлежало выбрать непременно те именно, которые тут употребляются в ужине. Попробуй спросить в ужине обеденное блюдо, которое тебе пришлось по вкусу, и тотчас назовут тебя более нежели варваром, более нежели непросвещенным: назовут тебя смешным (ridicule). Тогда ты уже совсем пропал: парижанин скорее согласится быть мошенником, нежели прослыть смешным! Предварительные наставления приятелей наших в Шалоне вывели, однако ж, нас из беды. Мы выбрали кушанья, поели прекрасно, заплатили предорого, получили несколько ласковых приветствий от хозяйки и побежали через улицу в свою квартиру».