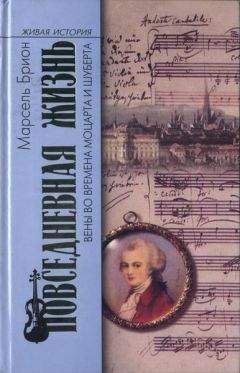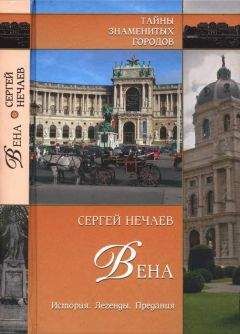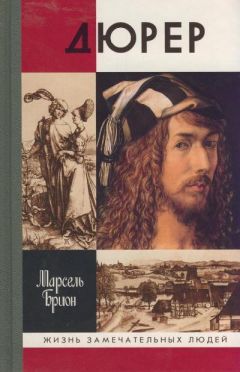Увлечению портретом благоприятствовал и экономический фактор, чем также не следует пренебрегать: по всей вероятности, портреты обходились клиентам художников очень дешево. Хотя у нас и нет сведений о том, какую цену назначал художник за свою работу — она, естественно, менялась в значительных пределах в зависимости от его таланта и известности, — цена эта, очевидно, была довольно низкой, поскольку до наших дней сохранилось множество портретов людей из простонародья. Похоже, что одна такая картина обходилась не дороже современной фотографии, и надо было быть очень бедным, чтобы отказать себе в удовольствии за столь небольшие деньги украсить свой дом собственным изображением.
Красота женщин, изысканность мужчин, изящество мод придавали портрету особенное очарование. Ниспадавшие по щекам локоны, шали, соскальзывающие с округлых плеч, глубоко декольтированные, очень узкие в талии платья, отделанные облаками воздушной кисеи, причудливые шляпки с перьями и лентами добавляли пикантность физиономиям этих княгинь и дам из буржуазии, скромную миловидность или аристократическое величие которых увековечивали Фридрих Амерлинг, Вальдмюллер, Йозеф Данхаузер, Петер Фенди, Мориц Даффингер. Такие широко известные полотна, как Играющая на лютне Амерлинга, портрет Кэти Майрхофер кисти Франца Шроцберга, миниатюра Даффингера, изображающая вечную невесту Грильпарцера Кэти Фрелих, и портрет Марии Смолениц, на которой художник женился и которую Грильпарцер находил так угрожающе красивой, потому что тоже ее обожал, прекрасные Жительницы Тироля работы Франца Эйбля, карандашный портрет княгини Шварценберг Крихубера лучше любого описания говорят о той атмосфере, которую эти восхитительные женщины создавали в Вене эпохи романтизма.
Это уже не были парадные портреты эпохи барокко, застывшие в псевдоиспанском церемониале окаменевшего от этикета двора: сердца и души смягчились и одновременно обрели больше свободы, больше фантазии, больше подлинного изящества. Модель не позирует перед художником в нарочитой позе, а художник стремится сделать портрет по возможности естественным. Он озабочен не только достижением физического сходства, формальной точности изображения, но в гораздо большей степени отображением психологической реальности, того уникального облика личности, который делает каждого человека не сравнимым ни с кем другим. Венские художники довели до совершенства изображение индивидуального характера, оригинального облика и темперамента, и достаточно одного взгляда на изображение Марии Смолениц, чтобы согласиться с Грильпарцером и представить себе бездны радостей и мук, ожидающие того, кто отважится ответить на призыв этих «глаз оленихи».
Естественно было также и то, что всеобщая любовь к поэтической реальности не в меньшей степени, чем к пейзажу и портрету, благоприятствовала изображению жанровых сцен. Сущность изображаемой картинки жизни здесь та же, что и в романах Штифтера и Грильпарцера, в пьесах Нестроя и Раймунда и даже в насмешливых описаниях Айпельдауэра. Можно также предположить, что она не слишком далека от истоков Песен Шуберта, в которых соединение непринужденности сюжета и вдохновения творит волнующую музыкальную красоту. Шубертовская Песня является по-своему жанровой сценой, кусочком чувственной, радостной или же полной отчаяния жизни, как, например, в его циклах Прекрасная мельничиха и Зимний путь.
Легко себе представить, что мотивы жанровых сцен могут варьироваться до бесконечности в зависимости от каприза художника и предпочтений заказчика. Народные празднества Леандера Русса, эпизоды городской жизни, в иронической манере изображенные Иоганном Ранфтлем, лирические сцены Иоганна Рейтера, деревенские обряды Фридриха Тремля — вот диапазон тематики этого жанра. В жанровой картине проявляется все простодушие «бидермайера», пронизанное реализмом, созвучное тонкому, интенсивному, но сдержанному романтическому чувству, которое словно из осторожности не хочет, чтобы его принимали всерьез. К самым замечательным и самым известным живописцам, работавшим в этом жанре, следует причислить Вальдмюллера, Даффингера, Данхаузера, Амерлинга, Эйбля, которые не ограничивались пейзажами или портретами. В этой области отличились также Карл Шиндлер, Михаэль Недер, Петер Фенди, которых также необходимо назвать в этом перечне, потому что их личности типичны для повседневной венской жизни, тонкими, веселыми и пылкими выразителями которой они пожелали остаться.
Некоторые из этих художников особенно преуспели в изображении эпизодов народной жизни потому, что сами вышли из народа. Таков, например, Михаэль Недер, который в свое время чинил обувь в предместье Дёблинг. В творчестве Недера нет никакой прозаической тяжести; могущество симпатии и любви преображает у него самые обыденные моменты повседневной жизни. В чем-то очень близкий своему современнику баварцу Карлу Шпицвегу,[130] он наделен даром одновременно иронического и исполненного любви видения окружающих его людей и вещей. Неприметный мастер, не интересовавший богатых коллекционеров и работавший для простых людей своей деревни и для своих коллег-ремесленников, Михаэль Недер прожил всю жизнь в бедности и умер в больнице, но никто не смог лучше и правдивее его передать спокойную и жизнерадостную скромность венских предместий.
Петер Фенди — живописатель зажиточной буржуазии и семейной жизни. Несколько сентиментальный, он опустился бы до преувеличенной сентиментальности, если бы не владел в совершенстве ремеслом живописца и не старался умерять свою типично венскую чувствительность, останавливаясь точно в тот момент, когда умиление угрожало перейти в театральность. Теплые и мягкие интерьеры бидермайерского декора создают обрамление его лирических сцен, изображенных в приглушенном свете и словно бы покрытых вуалью. Портреты и композиции Фенди, предпочтительными героями которых являются красивые, бойкие и ласковые дети, наводят на мысль о Шумане в его Детских сценах. Карл Шиндлер, напротив, выискивает несколько театральные сюжеты, в традиции, которая во Франции считалась бы традицией Греза и слезливой драмы.{48} Этот венец из старинного рода, отец которого преподавал рисунок в высшей школе св. Анны, умер двадцати одного года в Лааб-им-Вальде, близ Вены. На протяжении всей своей короткой карьеры он специализировался на выразительных эпизодах из военной жизни — на изображении не боевых сцен, а печали новобранца, оторванного от семьи, или родителей, которым сообщают, что их сын убит на войне. Его предпочтительной техникой является акварель, в которой он достиг виртуозности, сделавшей его знаменитым.
В жанрах австрийской живописи первой половины XIX века, о которых мы только что говорили, мало что можно сопоставить с великим немецким романтическим искусством той эпохи, воплощенным в работах Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Карла Густава Каруса, Карла Блехена, Людвига Рихтера, Эрнста Фердинанда Эме, если говорить только о самых «романтичных». Этот романтизм был недоступен австрийским художникам, только некоторые пейзажи, рисующиеся воображению в Песнях Шуберта, заслуживают того, чтобы поставить их рядом с мистическими пейзажами немцев. Зато другая ипостась романтического искусства, относящаяся скорее к иллюстрированию, нежели к живописи в полном смысле этого слова, рассказывающая легенды и сказки и считающая то, что рассказывается, не менее важным, чем манера рассказывать — если хотите, программная живопись, — обрела своего мастера в лице Морица фон Швинда и, в меньшей степени, в лице другого замечательного художника Шнорра фон Карольсфельда: первый был урожденным венцем, второй — учеником венской Академии, в которой прошла часть его творческой жизни.
Шнорр фон Карольсфельд жил в Риме, в окружении назарейцев. Он написал ряд религиозных картин в стиле этих художников, которых называли итальянскими прерафаэлитами. Он также прекрасно писал австрийские пейзажи и был горячим сторонником обращения вслед за Карстенсом, Кохом и Рунге к средневековым эпопеям, которые были в этот период заново открыты. Он очень четко ощущал эту обновленную готику, которая разрабатывалась у романтиков под влиянием многочисленных обращений протестантских художников в католичество, а, возможно, также под влиянием Священного Союза и Венского конгресса. Средневековая германская готика и первый итальянский Ренессанс в его представлении — как и в понимании Петера Корнелиуса, Овербека, Франца Пфора или Фердинанда фон Оливье — не слишком отличались друг от друга. Эклектик Шнорр обязан многим, с одной стороны, атмосфере немецкого романтизма, с другой же — романтизму назарейцев, в котором, однако, легко узнавались австрийские черты.