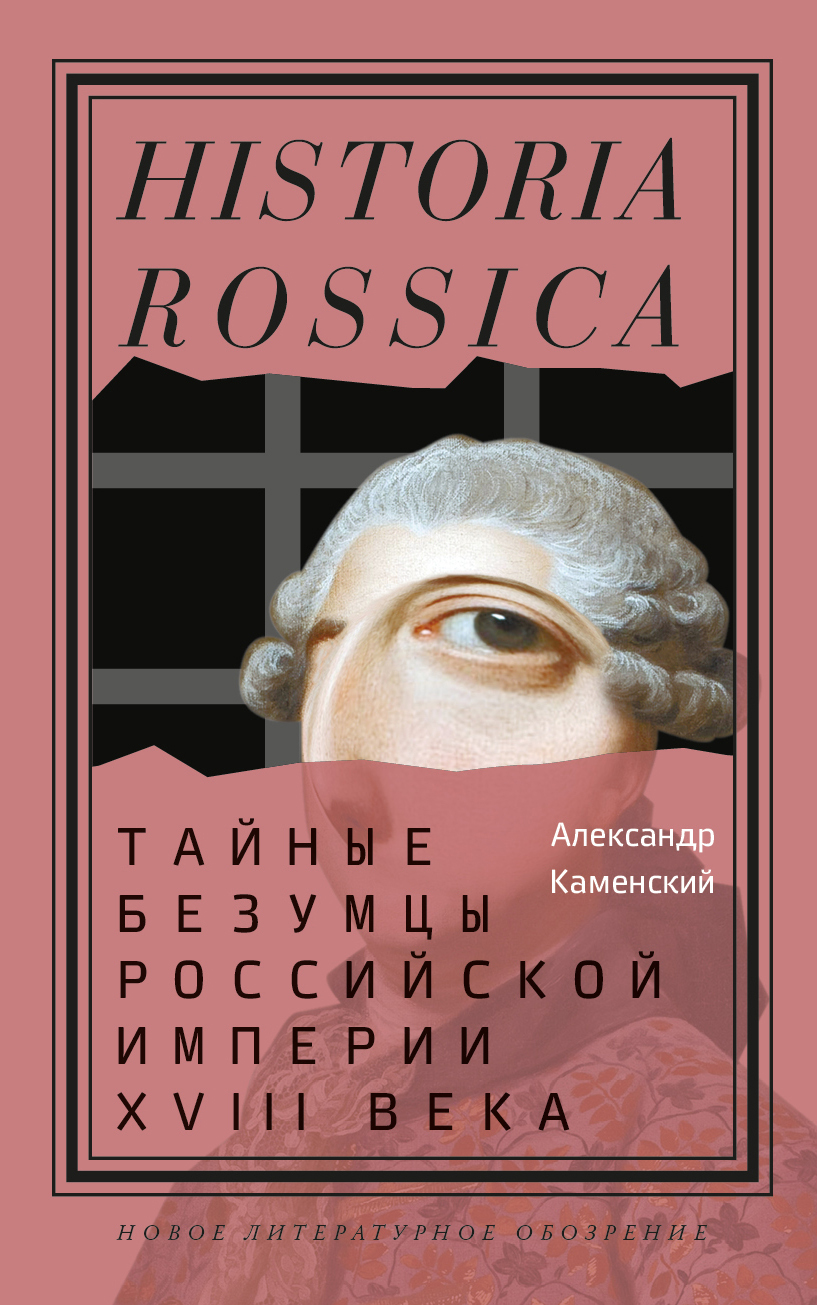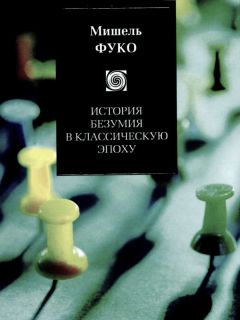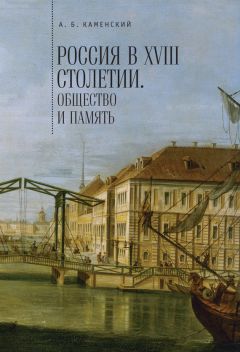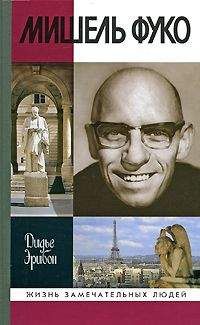l:href="#i_015.jpg"/>
Как можно видеть, пик политического безумия приходится на царствование Елизаветы Петровны. Вряд ли это отражает повышенную тревожность населения или какую-то особую озабоченность политикой в этот период русской истории, обычно характеризуемый в историографии как, напротив, время относительной стабильности. Скорее, в силу отмеченной выше гуманизации применявшихся в это время Тайной канцелярией практик ее следователи были более склонны признавать подозреваемых сумасшедшими и более внимательны к проявлениям безумия. В свою очередь постепенное снижение числа политических безумцев в екатерининское время [450] свидетельствует, с одной стороны, о действии запрета на произнесение «слова и дела», к чему еще нужно было привыкнуть, а с другой, о более рациональном восприятии властью самих проявлений девиаций политического характера. Показательно, что эта тенденция соответствует и общей направленности по уменьшению количества дел, проходивших через органы политического сыска. Так, по подсчетам Т. В. Черниковой, уже в 1760‑х годах по сравнению с предшествующим десятилетием оно снизилось почти вдвое (с 2413 до 1246) и продолжало уменьшаться в последующие десятилетия [451].
Проанализированные в этой главе количественные данные демонстрируют определенные тенденции, но для подтверждения их интерпретации, конечно, требуется расширение источниковой базы, которая позволила бы полнее охарактеризовать историю безумия в столетие, которое, по словам А. Н. Радищева, было «безумно и мудро».
Послесловие
Исследование, основанное на следственных делах душевнобольных, попадавших на протяжении XVIII века в органы политического сыска, конечно же, не может, как отмечено в заключительной главе, претендовать на статус исчерпывающей «истории безумия» в России этого столетия в целом. Совершенно очевидно, что три с небольшим сотни человек, оказавшиеся в поле зрения этих учреждений, составляют лишь малую часть страдавших психическими расстройствами россиян. Большинство не мучилось манией величия, не претендовало на родство с коронованными особами, не богохульничало, не топтало ногами иконы и не произносило «непригожих слов», а потому попадало в поле зрения властей, лишь если поведение безумца становилось опасным для окружающих и родственники не могли с ним справиться. Многие не «буйные» не получали никакой медицинской помощи; их не изолировали в монастырях и других заведениях, чаще всего они продолжали жить в своих семьях, подчас подвергаясь насмешкам и насилию со стороны домашних [452]. О некоторых из них становилось известно, если они кончали счеты с жизнью и нужно было решить вопрос об их захоронении. Согласно Артикулу воинскому, в основе которого лежали нормы западноевропейского законодательства, тело самоубийцы, покончившего с собой в припадке безумия, не подлежало наказанию и могло быть захоронено в церковной земле, без отпевания, но и эта норма подчас нарушалась. В отличие от большинства стран Европы того времени, в России для того, чтобы удостовериться в том, что покойный действительно болен, не требовалось судебное разбирательство, как правило, было достаточно свидетельств родственников и соседей, из показаний которых мы зачастую узнаем, что трагическое событие стало итогом многолетней душевной болезни, о которой было давно известно окружающим [453].
Сказанное относится, конечно же, к обычным людям. Судьба знатных безумцев складывалась подчас совсем иначе. «Во время пребывания двора в Москве, — вспоминала Екатерина II, — один камер-лакей сошел с ума и даже стал буйным. Императрица (Елизавета Петровна. — А. К.) приказала своему первому лекарю Бургаве ухаживать за этим человеком; его поместили в комнату рядом с покоями Бургаве, жившего при дворе. В этом году случилось так, что сразу несколько человек потеряли рассудок. По мере того, как императрица об этом узнавала, она брала их ко двору, размещала подле жилища Бургаве, и постепенно при дворе образовалась небольшая больница для умалишенных» [454]. Вполне очевидно, что содержавшиеся в этой «больнице» не представляли собой, как Исай Шафиров, угрозу государственной безопасности и, напротив, пользовались сочувствием императрицы.
Наблюдения над судьбами умалишенных, попадавших в учреждения политического сыска, позволяют, однако, выявить общие тенденции обращения с ними, проявлявшиеся на государственном уровне. Как мы видели, уже в самом начале XVIII века в отсутствие какого-либо соответствующего законодательства стоявшие на страже государственной безопасности чиновники считали, что психически больной человек не может нести ответственности за свои слова и поступки. Историки, пишущие о главе Преображенского приказа князе Ф. Ю. Ромодановском, единодушны в описании его кровожадности и неизменно цитируют характеристику, данную ему Б. И. Куракиным: «…собою видом, как монстра; нравом злой тиран; превеликой нежелатель добра никому» [455]. Приведенные, хоть и немногочисленные примеры показывают, однако, что жестокость не была для Ромодановского самоцелью, и, убедившись, что перед ним больной человек, не совершивший ничего серьезного, он возвращал несчастного родственникам без истязаний. К середине 1740‑х годов пытки и телесные наказания и вовсе исчезают из арсенала средств, применяемых к умалишенным следователями Тайной канцелярии, предвосхищая начавшиеся несколькими годами позже общую регламентацию пытки в уголовном процессе и ее полное изъятие на отдельных территориях и для отдельных категорий населения [456]. Стоит также заметить, что по сравнению с пытками, применявшимися к преступникам во многих странах Западной Европы [457], русская пытка, сводившаяся по большей части к поднятию на дыбу с битьем кнутом и реже с «зжением огнем», хотя и была жестокой и калечащей, но довольно примитивной. В Европе после появления книги Ч. Беккариа и в особенности после дела Ж. Каласа 1762 года началось возглавляемое Вольтером общественное движение за отмену пыток. Во Франции пытки были запрещены в ходе Французской революции, и затем этот запрет был распространен на страны, завоеванные Наполеоном, но после его свержения в Швейцарии и Испании пытки были возобновлены. Впрочем, в Англии о неэффективности пыток заговорили еще в XVI веке, и в 1640 году они были отменены [458]. В Шотландии это произошло в 1708‑м, а в Пруссии в 1754 году. В России с 1763 года распоряжениями очевидно знавшей о деле Каласа, а позднее и вдохновленной идеями Беккариа Екатерины II пытки постепенно исчезали из судебного обихода и были окончательно запрещены в 1801 году Александром I. Эта мера встала в один ряд с ликвидацией Тайной экспедиции, передачей политических дел в суды общей юрисдикции и указанием, что для душевнобольных нет «ни суда, ни закона».
Как и в других европейских странах, в России XVIII века умалишенных по большей части изолировали от общества — в монастырях, а в последней четверти столетия в доллгаузах и медицинских учреждениях. В первой половине века направление безумца в монастырь часто сопровождалось жесткими указаниями о режиме его содержания с упоминанием кандалов, кляпа и наказания шелепами. На практике же, как можно видеть по ряду дел, этот режим соблюдался далеко