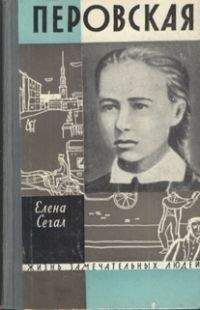Результатов не было, а мысль, что надо стучаться в двери к сектантам и старообрядцам, не умирала. «Народная воля» посылала рабочего Воскресенского в Тверскую губернию к известному сектанту Сютаеву, а московская попытка с «братством» проистекала все из того же источника. Пожалуй, наиболее показательным в смысле живучести раз усвоенных идей может служить факт, что 30 лет спустя один из видных, старейших членов «Земли и воли», ставший социалистом-революционером, Натансон, говорил мне в 1912–1913 годах за границей о тех же старообрядцах и сектантах как об элементах, на которые революционная партия может опереться в борьбе за политическую свободу.
Подробности о замысле «Народной воли» организовать революционное «братство» среди старообрядцев, вероятно, будут освещены в литературе более полно, когда очередь дойдет до относящихся сюда документов из архива жандармских управлений и департамента полиции, открытых революцией в 1917 году.
В Москве я передала Комитету многочисленные жалобы на военного прокурора Стрельникова как со стороны заключенных Киева и Одессы, так и со стороны их родственников. Эти жалобы касались главным образом его обращения с теми и другими. Считая оговор лиц, уже привлеченных к следствию, лучшим средством в борьбе с крамолой, Стрельников практиковал массовые обыски и аресты. Он производил настоящие опустошения, захватывая людей, совсем непричастных к революционной деятельности и имевших самое пустое отношение к лицам, их оговаривавшим. Это делалось совершенно систематически, по правилу, которое генерал формулировал так: «Лучше захватить девять невинных, чем упустить одного виновного». Захваченным предъявлялись самые тяжкие обвинения: в тайном обществе, в покушениях на жизнь разных официальных лиц и т. п. — и всем поголовно объявлялось напрямик, что их не выпустят из тюрьмы, пока они не покажут того-то или не подтвердят требуемого. Когда арестованные отказывались давать показания, гневу Стрельникова не было пределов, он положительно кричал на них и заявлял: «На коленях потом будете просить, чтобы я позволил дать показания, — и я не позволю». Рассказывали, что в Киеве он схватил за горло рабочего Пироженкова на допросе в присутствии товарища прокурора Кочукова. После попытки Урусова к бегству Стрельников обратился к конвойным с вопросами: «Что же, вы его убили?» — «Нет». — «А били?» — «Нет». — «Очень плохо сделали», — сказал на это генерал. О лицах, еще не попавших в его руки, он выражался не иначе как таким образом: «Как бы мне мерзавца такого-то поймать!» Наряду с обвиняемыми всячески застращивались родственники. «Ваш сын будет повешен!» — было обычным ответом на мольбы матерей. Свидания разрешались с трудом, как будто дело шло действительно о важных государственных преступниках. Отношение Стрельникова к евреям было возмутительное; так, он не церемонился говорить родителям об арестованных: «Евреи блудливы как кошки и трусливы как зайцы». Другим он сообщал, что думает создать процесс с «чесночным запахом». Эти и десятки подобных же проявлений цинизма, издевательства сильного над слабым создали Стрельникову репутацию бездушного и жестокого человека, добровольно бравшего на себя роль палача. Я передала Комитету общий говор и мольбу убрать его с места, на котором он мог делать столько зла. Вместе с тем я сообщила Комитету о том вреде, который наносила система действий Стрельникова партии вообще. Этот вред заключался в дискредитировании ее в общественном мнении, что происходило вследствие огульных оговоров и запугивания массы лиц людьми, терроризированными и деморализованными Стрельниковым, — людьми, совсем не принадлежавшими к революционным деятелям, но которых общество не имело возможности отличить от них, раз они привлекались по политическому делу. Напоминая Комитету предыдущую деятельность Стрельникова по целому ряду политических процессов, в которых он прилагал все усилия, чтобы смешать социалистов с грязью, выставить их перед обществом как шайку уголовных преступников, умышленно прикрывающих политическим знаменем личные поползновения испорченной натуры, и указывая на ту ненависть к Стрельникову, которую нам завещали наши товарищи, начиная с Осинского и кончая Поповым, я настоятельно предлагала поставить на очередь вопрос об убийстве Стрельникова. Вместе с тем я указывала на Одессу как на пункт, где легко могли быть собраны о его жизни все необходимые сведения и самый факт совершен с большей легкостью, чем в Киеве, где у него семья и масса знакомых и где он должен быть больше настороже в силу своей давней известности там и многочисленных указаний, которые он имел в своих руках о различных проектах покушений на его жизнь. Мое предложение было принято, и участь Стрельникова решена. Так как вместе с тем Комитет согласился, что Одесса представляет шансы более благоприятные, чем Киев, то необходимо было тотчас же послать туда человека, который собрал бы весь материал, необходимый для исполнения задуманного.
Таким человеком всего удобнее было явиться мне, как знакомой с Одессой и некоторыми лицами, которые могли в той или иной форме помочь изучению всех условий жизни Стрельникова. С этой целью Комитет и отправил меня после совещания в Одессу, с тем чтобы, собрав все необходимые сведения, я дала знать о высылке исполнителей. Я вернулась в Одессу в начале декабря и через две недели сообщила на север, что все данные о Стрельникове находятся в моих руках. Комитет выслал двух человек, но приехал из них только один Халтурин. Это было 31 декабря. Я передала ему для проверки все, что знала о Стрельникове, т. е. местожительство, часы и условия приема посетителей, время и место обеда; часы прогулки и посещения казармы № 5, куда он ездил для допросов; некоторые улицы, по которым он ходил; дома, в которых он бывал.
Когда мы узнали, что товарищ Халтурина не может приехать, как было условлено, то выписали другого агента, так как было решено местных людей к делу не привлекать. Но не успел он приехать, как Стрельников исчез из Одессы, уже после того, как Халтурин несколько раз видел его. Он не возвращался, должно быть, с месяц и был в это время, кажется, в Киеве. Ввиду полной неопределенности времени возвращения его мы решили, чтобы вызванный нами агент вернулся на свое место, тем более что Комитет писал нам, что высылает нам другого человека. За это время Халтурин выходил из себя от нетерпения и несколько раз собирался ехать в Киев, чтобы там организовать покушение; мне стоило большого труда уговорить его остаться на месте и ждать возвращения Стрельникова, вместо того чтобы ловить его в Киеве среди условий, совершенно неизвестных. Мы ограничились письмом туда, прося удостоверить, действительно ли он там, и в случае утвердительном исследовать образ его жизни. Никаких известий, однако, мы не получили.
Между тем в начале или в середине февраля Стрельников явился вновь в Одессу и произвел новую чистку, захватив сначала 12–16 человек, а потом продолжал аресты вплоть до своей смерти. В это время Клименко, посланный Комитетом, уже прибыл, и вскоре мы окончательно остановились на том, чтобы совершить покушение во время послеобеденной прогулки Стрельникова по Приморскому бульвару, около 5 часов вечера, и приготовить лошадь и кабриолет для бегства; было решено целить ему в голову и стрелять по возможности в упор. Но Комитет не выслал нам денег; впоследствии оказалось, что 300 рублей, которые были высланы, не дошли по назначению.
Ввиду арестов, которые постоянно происходили вокруг и могли зацепить и кого-нибудь из тех, кто должен был действовать, откладывать дело было невозможно. Тогда я достала 600 рублей на покупку лошади и экипажа и передала их Халтурину. Дальше мое присутствие было излишним и могло быть вредным, так как меня искали по всему городу и шли по моим следам; это сопровождалось таким шумом, что лица, меня в глаза не видавшие, знали и говорили о том, что меня ищут. Некоторые из моих друзей, как Ив. Ив. Сведенцев, были арестованы, у других были обыски, при которых предъявлялась моя карточка. Говорили, что рабочий Меркулов, осужденный по «процессу 17-ти» народовольцев (связанному с 1 марта 1881 года), но как предатель освобожденный в целях обыска, приехал в Одессу для выдачи своих товарищей-рабочих и ходит по улицам в надежде встретить и меня. К тому же Комитет отправил меня в Одессу со специальным поручением, которое было уже исполнено. Все эти обстоятельства заставляли уехать, и я отправилась в Москву, чтобы там решить с товарищами, где мне быть дальше. Перед отъездом мы получили известие, что для дела со Стрельниковым к нам едет агент Комитета Желваков, но я с ним разъехалась, и мне не пришлось с ним свидеться. После убийства Стрельникова он был казнен вместе с Халтуриным.
3. Разгром Москвы
Я приехала в Москву около 15 марта и остановилась в маленькой убогой квартире Андреевой, которая, как и ее брат, состояла членом местной московской группы. В этот раз в недобрую пору я попала к товарищам. Обстановка в квартире, атмосфера имели в себе что-то жуткое и зловещее. Самой хозяйки, которая была учительницей и давала уроки, по целым дням не было дома; оставалась ее няня, дряхлая старуха, не переставая бормотавшая что-то себе под нос на печке или бродившая по комнате, постукивая костылем. Сгорбленная, в морщинах, беззубая, с крючковатым носом, шамкая, она пророчествовала: «Быть беде. Чует сердце — быть беде». И эта беда, действительно, пришла. В комнаты с улицы не доходило ни звука; ко мне никто не заходил, и мне самой некуда было идти: в Москве в феврале и перед моим приездом произошел разгром, внесший во все дела полный беспорядок. 10 марта была взята общественная штаб-квартира на Садовой, где я бывала в ноябре; в ней арестовали ее хозяина — Юрия Богдановича. М. Н. Ошанина, более осторожная, успела вовремя оставить жилище и скрылась, как только появились довольно грубые признаки, что за квартирой следят. Доступ в типографию «Народной воли», где хозяевами были Г. Чернявская и Д. Суровцев, для посещения был закрыт, и в данную минуту в ней находила убежище Ошанина. Не знали, кто скомпрометирован, кто выслежен и кого каждую минуту могут арестовать; царила та неопределенность, при которой все сношения друг с другом на время прекращаются. Ходил слух, что кто-то из местных дает откровенные показания. Началось бегство, о котором после говорили, что спасался кто только мог. Франжоли и Завадская уехали в Саратов, чтобы потом перебраться в Харьков. Тихомиров с женой очутились в Ростове-на-Дону, откуда летом прислали ко мне Осинскую доставать заграничный паспорт, и, несмотря на мои горячие увещания, оба эмигрировали, как только получили к тому возможность. Ошанина, здоровье которой было расшатано, решила уехать за границу и вскоре, действительно, отправилась в Париж, чтоб уже не вернуться в Россию. Все эти факты и вести производили самое удручающее впечатление. Ко мне пришел только Савелий Златопольский, принес прокламацию Исполнительного комитета, только что отпечатанную, по поводу убийства Стрельникова (18 марта) и настаивал, чтобы, не дожидаясь свидания с другими членами организации, я оставила Москву, которая всем грозит арестом. Мы решили, что всего лучше мне устроиться в Харькове, где есть местная группа, но не было агента Комитета, так как работавшая там М. А. Жебунева после ареста ее мужа решила следовать за ним в Сибирь.