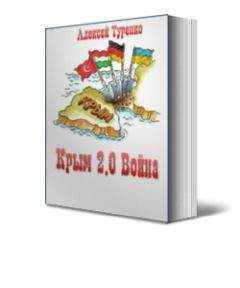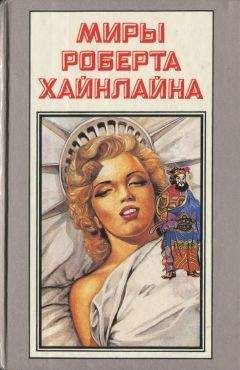- Он уже был в очень плохом состоянии, очень мучился... - Рассказ женщины то глухой, сдавленный, то звонкий, на высокой, чуть хриповатой ноте. - Я сама обмыла его. Было у него восемь ран, одна пробила пиджак слева под грудью, другая с правого бока вышла в спину, третья ударила в пах, потом еще в руке, повыше кисти, насквозь.
Женщине трудно говорить, да и звуки, из которых складывается начинающийся день, мешают. До слуха Маринки долетают обрывки фраз. Они беспощадно подробны, от них еще более зябко...
- По дороге валялись галоши, шапки... Стражники засыпали кровь углем и опилками. Ротмистр сам приезжал к руднику и объявил - на похороны по пяти рублей. Просили карточки снять, для детей, - запретили.
Женщина умолкает. Она выговорилась. Мальчишки подошли поближе и тоже притихли. Маленький, в короткой вельветовой курточке, потянул мать за юбку.
- Мама, домой пойдем, мы исть хотим!
- И то пора, - согласился Герасим и поднялся, крепко упираясь большой рукой о высокий камень. - Уж скоро по вагонам, - добавил он и пошел вперед.
Встала и женщина, оправляя траурную шаль, а вскоре пошли вслед за ними и Маринка с Архипом. Женщина ступает тихо. Впереди скачут звонкоголосые мальчики. Они скоро уедут с матерью и дедом Герасимом. Маринка тоже уедет со своим пятимесячным сыном. Маленький паровоз призывно гудит, гулко лязгают буфера вагонов, в которых сегодня уезжает последняя партия.
В течение двух месяцев было отправлено двенадцать партий, по тысяче пятьсот человек каждая, а всего с Ленских приисков в знак протеста уехало около двадцати тысяч человек. Для их перевозки правительство вынуждено было предоставить тридцать шесть пароходов и семьдесят две баржи. Рабочие ехали в Черемховский угольный бассейн, на шахты Кузнецка, на заводы и золотые прииски Урала. По всем уголкам необъятной России развозили они проклятие и ненависть к царскому строю.
До Бодайбо по узкоколейке ехали не шибко. Медленно, словно нехотя, уплывала назад суровая витимская земля, слезами и кровью политая, костями усеянная. За окном вагона то зелено мелькала тайга, то черные домишки приисковых поселков. Народ в поселках словно вымер. Только изредка якуты в расцвеченных душегрейках стояли на переездах со стайками оленей, собак и долго махали вслед то высокими шестами, то ружьями.
...А вот уже и позади вагонная духота, сдобренная табачным дымом, плачем детишек, угнетающим стуком колес. Вот и последние, прощальные гудки парохода. Приземистые домишки Бодайбо - этого сибирского Клондайка торопливо бегут за кормой и, отдаляясь, меркнут в лиловой осенней мари. Бурый Витим уже стремительно тащит разбухшие листья - предвестники осени. По гребешкам набегающих волн судорожно хлещут колеса старого парохода, скрипуче вздрагивает рассохшаяся палуба, беспорядочно заваленная разной кладью. У всех бортов покачиваются головы с взлохмаченными на ветру волосами. Протяжный гудок, вторя многоголосому хору, врывается в тревожные слова песни:
Вы жертвою пади в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу.
А мимо бортов угрюмо плывут витимские береговые утесы-великаны, словно прощаясь с песней, вздымают кверху свои могучие каменные руки. Эту печальную и грозную песню поют все. Не скрывая слез, поет старик Герасим Голубенков, поет бывший казарменный староста Александр Пастухов. Поют все.
Пароход, хлопая колесами, плывет вперед. Последний раз скользят за бортом скалистые берега сурового Бесыряка, уже далеко остался позади Долгадын. На всю жизнь останутся в памяти Марины красивые и звучные названия сибирских рек и притоков, таких, как сам Витим, как Томарак, Олер, Бюрюкан, Илигирь, Конатырь. Запомнит она широченный, каменистый и злой Иртыш, а особенно ляжет на душу синеокая Ангара, а на берегу такой красы реки, под цвет ее воды, мундиры жандармов с медными, ярко начищенными кокардами на фуражках. Сотни таких же казаков на косматых низкорослых лошадках встречали переселенцев и в Усть-Куте и в Жигалове. Спокойно и гордо пронесет Маринка своего сына мимо злых взглядов казаков, которые не хотели и не желали простить ей сословной измены.
...На переправе у потухающего костра, возле большой кучи черно-пестрых арбузов, сидел старик в широкой стеганой купе и ел дыню. Лошадь, запряженная в телегу, хрупко жевала сено. Паромщик, причаливая, скрипел тяжелым большим веслом. С котомкой за плечами и с ребенком на руках подошла Маринка. Тихие всплески воды играли прибрежной галькой. Родной Урал беспрерывно, без устали трудился. Пока телегу закатывали на дощатый настил, Маринка заплатила паромщику за перевоз, умыла у бережка ребенка и вошла на паром. Намокшие за лето колоды плыли лениво. Паромщик в больших кожаных рукавицах тянул высветленную проволоку. Ему помогал старый киргиз, напевая свою бесконечную песню. На берегу густо сверкал рубиновыми листьями молодой краснотал. Переехав Урал, Маринка попросила старого киргиза довезти ее до Турумского аула.
- Зачем тебе нужно в этот аул? - спросил киргиз.
- Там у меня знакомые есть, - ответила Маринка.
- Кто твой знакомый?
- Тулеген-бабай...
- Знаем такого, живет, хоть и старый, еще сто лет будет жить и песни петь, хорошие люди всегда долго живут...
- Нет, не всегда, - возразила Марина.
- Может быть, - согласился старик и тут же добавил: - Это уж как бог скажет...
Маринка промолчала.
В аул приехали под вечер. На пожелтевшем лугу около лимана, как и два года назад, раскинулись юрты. В стороне паслись коровы и овцы. То тут, то там дымили костры.
- Вон и юрта твоего знакомого, а рядом с ним его друга Куленшака, а та белая, с другой стороны... - Старик закашлялся и остановил лошадь, чтобы высадить женщину. Прикручивая к наклеске вожжи, добавил: - Белая юрта хозяина ждет.
Опустив голову, Маринка стала торопливо развязывать на платке узелок. Сунув палец в рот, Василек вертел головой по сторонам.
- Не надо денег... - сказал старик и тронул лошадь. Арба заскрипела и покатила дальше.
Пересадив ребенка на другую руку, Маринка огляделась. Прижимаясь к малышу мокрой щекой, тихо сказала:
- Вот мы и приехали, Василечек мой...
Там, поодаль, к костру склонились две женщины. Запахло вечерним варевом. В степи ужин всегда вкусно пахнет.
Медленными, усталыми шагами Маринка направилась к ним. В это время дверь ближней юрты открылась, показался Тулеген-бабай в лисьем малахае. Он посмотрел на Маринку и подался вперед.
- Ый, бай! - Руки старика безвольно повисли вдоль тела. - Камшат! вдруг закричал он. - Камшат!
Согнувшиеся у дымящихся котлов женщины подняли головы.
- Ну что ты так кричишь, старый? - Камшат приложила ладонь к глазам и увидела, как Тулеген-бабай стащил с головы свой малахай и что-то бормочет по-русски. Перед ним стояла женщина с ребенком на руках. Темное, худое лицо ее освещало вечернее солнце.
- Это он, да? - тыча в направлении мальчика длинным пальцем, спрашивал Тулеген. Голос у старика был напряженно-тихий.
Мальчик вдруг цепко ухватился за протянутый палец.
- У-у! Его сын, Кодара! - Тулеген размашисто качал обнаженной головой и, не стирая слез с морщинистых щек, взял малыша на руки.
- Охо-хо! - Камшат бросила засаленный половник в большую деревянную чашку и пошла к кинувшейся ей навстречу Маринке. - Пусть сам бог увидит, я все свои седины отдаю за этот миг. Здравствуй, Маринка, здравствуй, сноха родная!
- Тетка Камшат! - едва выговорила Маринка и повисла у нее на плече.
Тонкий выкрик резанул по сердцу щемящей тоской. Со всех концов кочевья к белой юрте стекались люди. Среди них шел овдовевший Микешка. Бережно прижимая малыша к груди, Тулеген-бабай вошел в юрту. Сверху, в открытую полость, заглядывал кусок чистого неба. В углу на кошмовой подстилке сидел молодой горбоносый беркут с кожаными на глазах колпачками.
- Вот ты и дома, - сажая мальчика на кошму, проговорил Тулеген.
На застывший очаг падала яркая полоса света. По стенам свисали тяжелые ковры, когда-то сработанные рукою Кодара. Вдруг в открытую дверь камнем влетел воробей, а за ним бойко и шустро вкатился пестрый комочек. Взъерошенный, испуганный воробьишка, взмахнув слегка поврежденным крылом, стрельнул в открытую полость и словно врезался в клочок синего неба. Одураченный щенок, пронзительно гавкнув, высоко подпрыгнул, шлепнулся на кошму и в ужасе замер перед крючконосым степным царем.
Василек засмеялся, и белая юрта снова обрела жизнь.
Москва - Малеевка
1955 - 1965