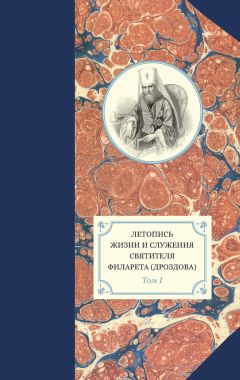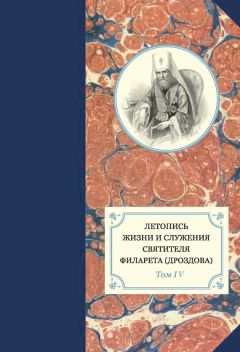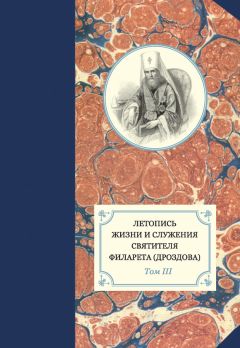Обращаясь за поддержкой к «земле», Филарет продолжал пока линию, начатую правительством в 1613 году. Как известно, с этого времени «земские соборы» действовали почти непрерывно. Но при всем том он не собирался делить с другими ответственность за эти шесть прошедших лет. Новый летописец главной заслугой патриарха считает то, что он «не токмо что слово Божие исправляше, но и земская вся правляше, от насилья многи отня; ни от ково ж в Московском государстве сильников не бысть опричь их государей»[57]. Разумеется, следует помнить, что к такой позиции побуждал патриарха и его высший духовный сан.
Что же касается самой борьбы с «сильниками», то она была провозглашена не только на словах, но и вылилась в создание нескольких особых Сыскных приказов для сыска земельных окладов, вывода из посада «беломестцев» и т. п. Именно Сыскные приказы Филарета и должны были служить в значительной мере достижению тех целей, которые были изложены в Соборном приговоре июля 1619 года. Особо при этом следует выделить специальный приказ «Что на сильных целом бьют»[58].
Заявленные летом 1619 г. основные направления внутренней политики оставались главными для Филарета в течение всего времени его правления. Однако в жизнь они проводились медленно и не всегда последовательно. Причин тому находят множество, но не последней можно считать ту, что ближайшее окружение Филарета, те, на кого он опирался, состояло именно из «сильных людей»; они же возглавляли приказы, они же владели «беломестцами» и сосредоточивали в своих руках огромные земельные богатства. Да и рубеж, проведенный Смутой в жизни общества, был настолько глубок, что никакой возврат к «старине» был уже невозможен.
Между тем с 1622 г. Филарет отказывается от идеи опоры на представителей «всея земли» и перестает собирать «земские соборы», чувствуя свою власть уже достаточно сильной. Он официально именовался «великим государем и патриархом», соединяя в одном лице верховную светскую и духовную власть в государстве, освященную к тому же авторитетом царского родителя.
До нас дошла переписка Филарета с Михаилом во время частых отлучек последнего вместе с матерью, а затем и с женой на богомолье. Царь выступает отнюдь не как бесцветная личность. В его первых посланиях проглядывает образ юноши, покоренного обаянием сурового облика своего родителя. Преклоняющийся перед Филаретом сын поначалу ищет для выражения чувств все новые, своеобразные обороты. Он адресует послания то «учителю православных велений, истинному столпу благочестия, недремателну оку», то «вселенскому пастырю и владыце», то «церковных кормил правителю, карабль православия неблазненно направляющу во пристанище благоверия», то «терпения столпу, кормчию Христова карабля, в тихости учения Того словесныя овца во пристанище спасения направляющу»[59]. Постепенно, правда, формулировки становятся все более застывшими.
Особой душевностью проникнуты на первых порах и письма «прежебывшей супруги» Филарета, а теперь «духовной дщери» Марфы Ивановны. Одно из них она даже адресует «преже убо по сочетанию законного брака свету очию моею, государю и супругу». Когда во время одной из таких поездок патриарх оставался, как обычно, в Москве, до богомольцев дошла весть о его болезни. Филарет страдал «камчюгом», то есть подагрой. Весть встревожила Марфу с сыном. Старица тоже прихворнула, ей «припомянулася прежняя болезнь портежная», которой она, очевидно, страдала со времен ссылки в Заонежье. В письме патриарху она радуется, «яко обще с тобою, государем, мало поболезновати сподобихся». Равно и Филарет в письме сыну замечает: «А о том благодарю Господа Бога моего Иисуса Христа, что нас обоих посетил болезнью: а вам бы, Великому Государю, об наших старческих болезнях не кручинитися; то наше старческое веселие, что болезни с радостью терпети»[60]. Но в целом письма патриарха более сухи и суровы. Фактически это один и тот же повторяющийся текст, стержнем которого является извещение о том, что он «телесне жив, а душевне Бог весть», за исключением тех случаев, когда этикет требовал оповестить царя о чем-либо важном.
Филарет являлся истинным государем, на котором лежало решение всех духовных и светских вопросов. Положение его как великого государя подчеркивалось учреждением особых патриарших стольников, по численности равных стольникам царским. В боярских списках за 20-е годы XVII в. они шли вслед за государевыми стольниками, правда, по знатности в целом уступали им; даже те их них, кто имел княжеский титул, принадлежали обычно к захудалым родам. Патриаршие стольники набирались из жильцов, городовых детей боярских[61]. Поместные оклады их также были ниже, чем у царских. Формально входя в состав государева двора, они несли службу непосредственно при особе Филарета, то есть на патриаршем дворе.
Кроме того, Филарет учредил несколько особых патриарших приказов. Они управляли и патриаршим двором, и делами патриаршей епархии, расположенной в сердце России и равной по размерам европейскому государству. Царской грамотой 1625 г. эта область превращалась, по сути, в «государство в государстве», где полновластным правителем становился патриарх[62]. Еще раньше он принял ряд мер по укреплению положения церкви. Указ 1622 г. закреплял за монастырями вотчины, купленные и данные им после Соборного уложения 1580 г., запрещавшего завещать, продавать и закладывать вотчины монастырям. А через год вышел указ о необходимости нового утверждения всех жалованных грамот духовенству и монастырям, включая даже те, которые уже были подписаны царем до 1619 года[63].
Необычный статус Филарета был новым явлением в русском обществе, и к нему не сразу привыкли. В сентябре 1621 г. И. Ф. Хованский, которому было указано «встречать» турецкого посла на патриаршем дворе, бил челом на Н. В. Годунова, «встречающего» того же посла у государевой Золотой палаты. А П. А. Репнин, посланный «со столом» к послу от имени патриарха, жаловался на Ю. А. Сицкого, ездившего «со столом» от царя. В оправдание себе Репнин заявил, что раньше он «не бил челом, тем их Государей гневить не смел и не розделял их государского имени», а нынче бьет потому, что Сицкий «похваляется тем, сказывает, что он его учинился болши, потому что он ездил от Государя». На это было сказано, что «бьет челом тем он, князь Петр, не знаючи, и в место то он ставит не делом, что он, Государь, и отец его государев, великий государь святейший патриарх, их государское Величество нерозделно: тут мест нету, и впредь бы о том деле не бил челом и их Великих Государей тем на гнев не воздвигнул»[64].
Однако наиболее ярко самовластная натура патриарха проявилась в его отношении к царскому окружению, сложившемуся до 1619 года. При этом опалы последовали не сразу, хотя с самого начала на первые места рядом с государями вышли люди, близкие Филарету еще по польскому плену: боярин М. Б. Шеин, награжденный «за литовский полон» шубой и кубком, боярин И. И. Шуйский, брат царя Василия Шуйского, приближены оказались и дворяне Б. И. Пушкин, Б. М. Глебов, И. Г. Коробьин. Сохранили свое влияние царские родственники бояре И. Б. Черкасский, Ф. И. Шереметев. Большую роль играли окольничий Г. К. Волконский, Ф. Л. Бутурлин, а из дьяков — последовательно возглавлявшие Посольский приказ думные дьяки И. Т. Курбатов-Грамотин, Ф. Ф. Лихачев, Е. Г. Телепнев, а также Т. Ю. Луговской. Примерно с середины 20-х годов XVII в. начинают набирать особую силу «патриаршие бояре»: А. В. Хилков, И. А., а затем и С. В. Колтовские.
Хотя Филарет по безраздельности своей власти мог бы, кажется, не беспокоиться о ее сохранности, он все же следил за тем, чтобы у царя не появлялись любимцы. Новые родственники государя Стрешневы даже после рождения у царицы Евдокии Лукьяновны наследника, царевича Алексея, продолжали оставаться в тени. Однако наиболее важно для патриарха было удалить Салтыковых, близких к «великой старице». Нужны были веские основания. И тогда из забвения извлекли «дело Хлоповой». Еще до возвращения Филарета девица Марья Хлопова была наречена царской невестой, взята «в верх», где жила с матерью и бабкой Анной Желябужской. Ходила с государем и «великой старицей» на богомолье и пользовалась симпатией молодого Михаила.
Хлоповы, как и Желябужские, давно были близки к семье Романовых. Отец невесты был при царе Борисе Годунове приставом Романовых после возвращения их из ссылки. А Федора Желябужского царь послал к отцу в Польшу — ответственное и в то же время как бы «семейное» дело, справившись с которым Федор был в Москве царем пожалован. Одним словом, родня невесты, и так уже близкая к Михаилу, могла теперь «возвеличиться» еще больше. И уже решенная свадьба вызывала раздражение Салтыковых, что и вылилось в ссору Михаила Салтыкова в присутствии царя с дядей невесты Гаврилой Хлоповым, похвалявшимся своей верной службой государю. Салтыковы сумели воспользоваться временным недомоганием Марьи, возможно ими же и подстроенным с помощью отравы, подмешанной в лекарство. Благодаря их «наносу» Хлопова была сослана «с верху» и отправлена с родней в Нижний Новгород, где ее поселили на бывшем дворе Козьмы Минина[65]. Родственная близость и старое влияние Салтыковых оказались тогда сильнее кратковременного фавора предполагаемых родственников.