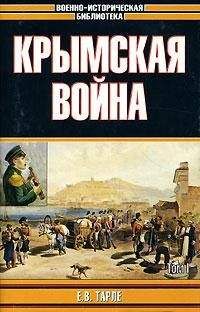Другие обвиняемые пострадали даже и без таких оснований и доказательств. Ткач Фарсель, арестованный в пьяном виде и заподозренный, что он напился вина из разграбленного погреба Ревельона, на допросе показал [38], что «любопытство видеть происходящее увлекло его; что он видел, как бросали из окна вещи Ревельона и жгли, но не принимал во всем этом участия». Он был приговорен к пожизненной каторжной работе на галерах; перед отправлением на каторгу Фарсель был еще заклеймен публично раскаленным железом и должен был простоять час у позорного столба. К такому же точно наказанию были приговорены и еще четыре подсудимых. Один из них, Ламарш (красильщик), тоже был уличен только в том, что находился в нетрезвом виде. Улик других не было никаких, и комиссар принужден был выдумывать вопросы: «спрошенный, почему его одежда покрыта грязью, ответил, что это потому, что он упал, будучи пьян» [39]. Нетрезвое состояние как главная улика погубило и остальных подсудимых этой категории; Леблан (шорник) оправдывался тем, что толпа «насильно» повела его в погреб, где все пили [40]; толпа же принудила его взять камни в карманы, но сам он в солдат их не бросал, и т. д.
Кроме нетрезвого состояния (приводившегося в связь с разграблением погреба Ревельона), своего рода уликой, за неимением ничего лучшего, были сочтены раны, и те из раненых, которые не могли уйти с места бойни и попали в больницу, были тоже допрошены. Их ответы еще менее содержательны, да и власти абсолютно ничего не могут противопоставить их отрицанию: Кюни, столяр, был в толпе, ранен, ничего больше не помнит, подстрекателей не знает, действовал как все, «пример его увлек» [41]; Прево, торговец вином, был пьян, но к счастью для себя арестован не в ограде мануфактуры; найдены при нем подсвечники, но он заявляет, что они принадлежат ему, а у властей, по-видимому, нет возможности это опровергнуть; на месте беспорядков очутился, чтобы посмотреть, из любопытства… Почти всех допрашиваемых спрашивали, не знают ли они зачинщиков, не слыхали ли они имена подстрекателей, не давал ли им кто-нибудь советов, и всегда, без исключения, на эти вопросы получался отрицательный ответ. Некоторых (например, юного мраморщика Жилля) [42] чуть ли не только об этом и спрашивали; Маршана, сапожника Этьена, гравера Прюдома, судовщика Пулена — всех этих людей, относительно которых ни малейшей улики не было, спрашивали о подстрекателях. Видно было, что комиссарам дана была определенная инструкция узнать главарей, — и невольно вспоминается цитированная выше фраза, что судебными средствами плодотворных результатов не добудешь. Намек ли это на пытку, уже отмененную по закону? Предположение невозможное, потому что письмо писалось Неккеру, но ясно одно: высшие власти действительно желали узнать «подстрекателей». Это явствует не только из цитированной выше переписки, не только из протоколов допросов, которые в этом смысле интереснее по тому, что спрашивалось, нежели по тому, что отвечалось; это явствует из характерных мелочей, содержащихся в документах, из того, что не только Неккер, но и министр двора получали донесения от королевского прокурора суда Шатле о том, как подвигается следствие, из беспокойного напоминания начальника полиции де Кроня следователю Гюйону, отправлявшемуся допрашивать раненых, чтобы их ни в каком случае не выпускали [43], из просьбы сейчас же после допроса заехать к нему сообщить о результатах и т. д.
Повторяем: если все эти документы, являющиеся первоисточниками для изучения дела, что-нибудь вполне ясно и непререкаемо устанавливают, то именно полнейшую непричастность правительственных лиц к возбуждению мятежа 27–28 апреля. Начиная с суровой репрессии бунта, продолжая казнями подвернувшихся под руку людей, тщательными расспросами арестованных о зачинщиках и подстрекателях, осуждением на пожизненную каторгу людей, против которых не существовало никаких сколько-нибудь серьезных улик, власти все время обнаруживали весьма много жестокости и презрения к человеческой жизни, но ни малейшего стремления потушить дело, покрыть виновных, замести следы и т. д.
Особенно ярко это сказалось в сознательной тенденции возможно демонстративнее наказать виновных (или, точнее, обвиненных) и этим запугать беспокойное рабочее предместье. Как уже было сказано, казнь Пура и Жильбера 29 апреля, на другой день после восстания, так же как и казнь Мари, произведены были не только публично, но на самом месте беспорядков — у входа в Сент-Антуанское предместье. Прибавим, что наказание пятерых лиц, приговоренных к пожизненной каторге, произошло там же (одновременно с казнью Мари) и сопровождалось особой торжественностью — все они должны были принести так называемую amende honorable: еще до прибытия к Сент-Антуанским воротам, обвиненные — босые, с непокрытыми головами, в одних рубахах — были доставлены к церкви Нотр-Дам; здесь они, стоя на коленях, с зажженными факелами в руках, должны были каяться в своих прегрешениях, а затем их в позорной колеснице доставили к Сент-Антуанским воротам, где они были публично заклеймены раскаленным железом и прикованы за шею железными ошейниками к позорным столбам. Лишь после того, как они постояли около часа в таком положении, они были отвезены в тюрьму.
Вся подспудная сторона дела, насколько она открыта перед нами в тех официальных документах, которые были неизвестны современникам, все внешние факты, у всех перед глазами происходившие, — все это, повторяем, не дает ни малейших оснований усомниться в том, что мятеж 27–28 апреля явился и для Людовика XVI, и для Неккера, и для де Кроня, и для Безанваля, и для герцога Шатле, и для министра двора полной и неприятной неожиданностью, которая очень их встревожила и дольше их интересовала, нежели можно было бы думать, принимая во внимание другие события: ведь через неделю после разграбления Ревельона открылись Генеральные штаты и начался длительный конфликт между депутатами трех сословий. Но теперь нам нужно для полноты впечатления коснуться вопроса, как сами потерпевшие — Ревельон и Анрио — смотрели на постигшее их несчастье. Кого они обвиняли?
Если от протоколов допросов перейдем к показаниям самих пострадавших, то увидим, что и здесь нет никакой решительно путеводной нити, при помощи которой возможно было бы добраться до «подстрекателей» и «виновников» бунта. Оба пострадавшие, и Анрио, и Ревельон, решительно не понимая, откуда на них обрушилась такая беда, спустя несколько дней после события стали приписывать все случившееся проискам личных своих врагов и даже сделали попытку преследования их в судебном порядке. Но элементарнейшие правила исторической критики требуют отметить полнейшую несостоятельность и необоснованность обоих обвинений.
Анрио (относительно которого данных еще меньше, чем относительно Ревельона) подал 6 мая, значит, спустя восемь дней после разгрома, жалобу [44] на некоего столяра Мютеля (Mutel) и «других сообщников», причем прямо заявлял, что этот Мютель — главный виновник события [45]. Главное из этой жалобы перепечатано было самим Анрио и дополнено другими его соображениями в той брошюре, которую он выпустил тогда же [46]. Анрио пишет, что до своего разорения он был владельцем заведения для выделки селитры, где работали постоянно от 25 до 30 рабочих, с которыми он всегда был вполне гуманен. Но, пишет он дальше, «ужасные люди подняли народ, я не знаю, для какой цели и в каких видах. Что я могу утверждать и что объявил правосудию в жалобе, это то, что некий Мютель, рабочий столяр, которого я не знал, с которым я не состоял никогда ни в каких отношениях, встретился со мной за пять дней до моего несчастья в собрании, происходившем в округе Enfants trouvés, и вдруг стал меня оскорблять самым гневным образом, как только можно себе представить, а когда я попытался путем вопросов узнать причину его ярости, он ответил мне следующими замечательными словами: «Я имею столько денег, сколько хочу и когда хочу», и при этом звякал монетами, находившимися в кармане» (Анрио почему-то полагает, что это были монеты по 6 франков — «экю»). Вот и все. Анрио пишет, что и о нем был пущен слух, как и о Ревельоне, будто он тоже сказал, что рабочие могут жить на 15 су в день; и, сверх того, его столь же ложно обвинили, будто он назвал людей из народа, находившихся в собрании округа Enfants trouvés, — «canailles», но он даже не говорит, передано ли ему кем-нибудь, что именно Мютель пускал эти слухи. Конечно, намек на подкуп уже потому не выдерживает никакой критики, что не стал бы Мютель ни с того, ни с сего объяснять жертве своего гнева, что он гневается потому, что ему за это дали денег. Если Мютеля все-таки арестовали, то это только лишний раз доказывает, как властям самим хотелось непременно открыть подстрекателей и с какой готовностью они хватались за самый неосновательный донос. Правда, его сейчас же отпустили. Кроме этого указания, Анрио ровно ничего не мог сообщить властям и обществу, если не считать известия, что еще за два месяца до события какая-то служанка сказала ему и его жене, что в Сент-Антуанском предместье будет восстание и что рабочие этого предместья ожидают рабочих Сен-Марсельского предместья [47]. Нужно прибавить, что Анрио ничуть не жалуется на властей. Напротив, они дали ему убежище в опасные для него минуты — в Венсенском замке (Ревельон же спрятался в Бастилии); он обратился к правительству за материальной помощью, ибо разгром его совершенно разорил; он называет правительство справедливым и т. д.