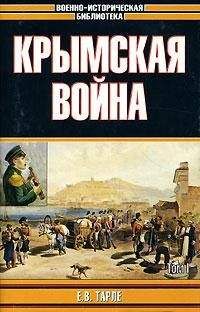Не больше пользы для выяснения дела принес и другой пострадавший — Ревельон. Так же как и Анрио, он счел долгом через несколько дней после разгрома своей мануфактуры и всего своего дома выпустить в свет брошюру для опровержения ложных слухов [48]. Здесь пока он еще не высказывает никаких определенных суждений о возможных подстрекателях. Он приводит факты из своей биографии, свидетельствующие, что он долгим и тяжелым трудом выбился из нищеты, начавши с положения простого рабочего; постепенно ему удалось завести собственную мастерскую для выделки высших сортов бумаги, где работали 10–12 человек; с течением времени его предприятие разрасталось, хотя ему и приходилось выдерживать борьбу с «соревнованием и деспотизмом» цехов, из коих то один, то другой обвиняли его в нарушении их прав и привилегий [49]. Наконец, заведение достигло высокой степени процветания, в нем работало регулярно более 300 рабочих, причем они получали от 25 до 100 су в день, а дети их (от 12 до 15 лет) тоже имели заработок от 8 до 15 су в день. С рабочими у него отношения были всегда прекрасные; ни один из них не принимал участия в грабеже, напротив, они бы защищали его, если бы были вооружены [50], — все произошло от неистовства толпы посторонних заведению людей. «Впрочем, говорю это очень искренно, я не сержусь на народ, несмотря на зло, которое он мне сделал; он был увлечен; но как преступны и достойны кары люди, которые довели его до этих ужасных эксцессов! Еще раз: я не знаю, или я не могу в точности сказать, какие нечистые уста вдохнули ярость в сердца всех этих несчастных, но я знаю, что искусно сеяли клеветы, которые их ввели в заблуждение; я знаю, что их постепенно разгорячали» и т. д.
Он «знает также, что им раздавали деньги», но не говорит, ни кто раздавал, ни откуда ему известен самый факт. Но он уж имел в виду лицо, на которое, как ему казалось, должно было пасть наибольшее подозрение: это был именно аббат Руа.
Подобно тому, как Анрио заподозрил Мютеля a priori, не имея ни малейших положительных доказательств, так и Ревельон, не располагая абсолютно никакими сведениями о поведении аббата Руа 27–28 апреля, заподозрил его единственно потому, что Руа был его врагом, и он тогда как раз вел против Руа судебный процесс. Самый процесс для нас тут не имеет никакого интереса [51]. Суть дела заключается в том, что аббат Руа, третьестепенный литератор, приступая к печатанию одного своего сочинения, взял в долг бумагу у Ревельона, но не только в срок не уплатил, а еще сделал попытку получить из кассы заведения Ревельона 7 тысяч ливров по векселю, который был Ревельоном признан подложным. Дело об этом подлоге производилось в суде Шатле, но еще не было решено, когда произошли события 27–28 апреля. Конечно, подозрения, за отсутствием вообще каких бы то ни было улик, обратились на аббата Руа, так как он находился во вражде с Ревельоном. 3 мая его арестовали, захватили по обыску его бумаги, но, продержав немного более недели, выпустили (12 мая), так как ничего решительно не могли против него установить. Арестован он был, как явствует из письма [52] де Кроня к министру двора (Вильдейлю), вследствие слухов, что он подстрекал толпу и раздавал деньги бунтующим. Доносившие боялись прямо указать на аббата Руа, дабы не нажить себе в его лице «неумолимого врага», и вот с целью освободить их от этого страха аббат и был арестован. То обстоятельство, что он был «секретарем и историографом» графа Артуа, конечно, не могло не способствовать усилению враждебных чувств к аббату среди той части публики, которая склонна была приписывать весь разгром 27–28 апреля проискам реакционной партии. На допросе [53] аббат показал, что он в дни восстания даже не был в Сент-Антуанском предместье, и вообще описал шаг за шагом все свое поведение за эти дни, ссылаясь на лиц, с которыми в эти дни встречался, с которыми ходил по улицам и т. д. (Между прочим, он и показал, что встретил несколько оборванцев, сопровождавших носилки с ранеными, и один из этих оборванцев просил у прохожих милостыню со словами: «ayez pitié de ce pauvre Tiers-Etat!»). Ни единой очной ставки с обвинителями не было сделано, ибо и обвинителей определенных не оказалось и ничего нельзя было противопоставить вполне ясным и детальным показаниям аббата Руа. Нечего и прибавлять, что ни один из арестованных ни одного слова об аббате Руа не поминал. Характерно, что прокурор, зная, что против Руа нет никаких данных, не хотел его выпустить слишком скоро, чтобы не раздражить публику. Вот что писал он Неккеру [54] через четыре дня после ареста аббата: «Ничего не открывается против аббата Руа, и до сих пор невозможно включить его в процесс. Вследствие этого те господа, которые работают над расследованием, и я — мы решили, что г. прево (Иль-де-Франса) не должен его допрашивать, потому что сейчас после допроса мы были бы принуждены его выпустить на свободу, что, быть может, произвело бы дурное впечатление среди публики». Эту формальность (допрос у прево) отложили, но в конце концов пришлось аббата выпустить.
Ревельон сам не решился печатно его обвинить в подстрекательстве, но он продолжал против него войну на другой почве. В середине мая он опубликовал вышеупомянутый «Mémoire» [55], в котором подробно изложил историю с подложным векселем, и этот «Мемуар» имел, по показанию очевидца Гарди [56], большой успех. (Надо, между прочим, заметить, что для человека, который внимательно прочтет этот «Мемуар», не может остаться никакого сомнения в том, что, действительно, аббат Руа желал получить деньги по подложному документу.) Дело в суде было двинуто, и в заседании 27 мая 1789 г. решено было снова арестовать аббата, но уже по обвинению в подлоге; аббат бежал в тот же день и скрылся без вести; но он писал против своих недругов, не осмеливаясь показаться.
Что эта темная личность, действительно, была не при чем в событиях 27–28 апреля, — это не подлежит ни малейшему сомнению. Но, чтобы уже покончить с этим вопросом, упомянем о трех брошюрах, выпущенных аббатом Руа уже после бегства и хранящихся в Национальной библиотеке. Одна из них направлена против действий властей, которые после его бегства арестовали его служанку и грубым обхождением и угрозами довели ее до самоубийства [57]. Для нас любопытнее всего тут подпись: «аббат Руа — гражданин, что бы ни говорили мои враги» [58]. Непременное желание прослыть «гражданином», а не приверженцем старого режима, еще яснее сказывается в другой брошюре, представляющей собой дополненное письмо, которое аббат Руа послал парижскому мэру Бальи спустя два с лишком месяца после своего бегства, — 5 августа 1789 г. Дело в том, что легенда о нем как об агенте придворной партии продолжала держаться, и вскоре после взятия Бастилии народ однажды чуть не повесил одного аббата, принявши его по ошибке за аббата Руа. Для Руа это происшествие было слишком зловещим, и вот с явной целью обезопасить себя от расправы в случае, если его убежище будет открыто, он и написал Бальи письмо, которое впоследствии напечатал [59]. Он жалуется тут на «гнусную клевету», будто он виновен в народном бунте против Ревельона, и говорит, что не знает даже, кто первый пустил ее в ход. Он жалуется на то, что в эпоху, когда эта клевета впервые была пущена, еще царил «министерский деспотизм» и министр двора Вильдейль заставил арестовать аббата. Он жалеет горько, что его допрос не был опубликован, ибо тогда он совершенно оправдался бы в глазах общества. Не успели, жалуется он, его выпустить из тюрьмы (12 мая), как уже через несколько дней (по уголовному обвинению — в подлоге) его велено было вновь арестовать… Довольно глухо изъясняясь относительно этого дела о подлоге, аббат спешит перейти к тому, что это обвинение «отравило» торжество его невинности. Горько жалуется он на то, что народ готов был убить всякого, кого примет за аббата Руа, и он просит Бальи и столичную коммуну помочь ему оправдаться. Он с жаром описывает свою любовь к народу [60], к народной свободе и т. д. Далее он снова возвращается к обвинению в подлоге и заявляет, что «если документ был ложен, то я был обманут», но, впрочем, спешит он опять заявить, «это — дело частного лица против частного лица, оно не имеет ничего общего ни с волнением (27–28 апреля), ни с народом». Все это путаное и слезливое прошение испуганного человека кончается принесением присяги в верности конституции, причем аббат заявляет, что подписывает ее своей кровью.
Наконец, третья брошюра аббата Руа [61] посвящена опровержению обидных для него толков прессы. В газете «Les révolutions de Paris» его называли «тайным агентом аристократов, одним из главных орудий народного волнения в Сент-Антуанском предместье». Он громко жалуется на это, опять напоминает о «министерском деспотизме», благодаря коему он невинно пострадал, просидевши несколько дней в тюрьме без всяких улик. Он полагает также, будто его и арестовали только потому, что как раз в это время печаталась его брошюра о свободе прессы и власти хотели прервать печатание (мы видели, что арестовали его единственно вследствие слухов об его участии в восстании, — правда, действительно, без всяких оснований, но в официальной переписке никаких упоминаний о названной брошюре нет). Все 26 страниц разбираемого произведения («La vérité dévoilée») наполнены ламентациями о несправедливости обвинений против него и полемикой против журналистов, которые, правда, всегда вскользь, но всегда недружелюбно поминали его имя.