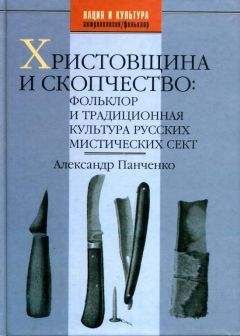Ознакомительная версия.
6) мотив сочувствия надзирателя заключенным достаточно устойчив в тюремной песенной традиции, более того: хорошо известная в конце XIX – начале ХХ в. песня «Ночь тиха, считай минуты…», восходящая к стихотворению Н. П. Огарева «Арестант», вся построена как диалог узника и сторожа о помощи в побеге; однако там часовой, жалея арестанта, тем не менее отказывается притвориться спящим и дать ему уйти, объясняя это мучительностью ожидающего его в этом случае наказания («Пуля, барин, ничего бы, / Но боюсь я батога / Отдадут под суд военный / И сквозь строй проволокут / Ни ружья, ни ревовера, / Мне с собою не дадут, / А дадут кирку, лопату / К вечной тачке прикуют» (Новые песни каторжан 1914:VI–VII)) – в то время как в рассматриваемой «политизированной» тюремной песне все происходит наоборот: распропагандированный политзаключенными надзиратель сам отпускает арестантов, готовясь претерпеть за их свободу («А я старик пойду садиться / В темну камеру за вас»).
Заметим также, что текст 2, посвященный политическим арестантам, полностью выдержан в интонации и стилистике старой тюремной песни и не содержит никаких дискурсивных диссонансов (в этом смысле особенно характерно обращение надсмотрщика к заключенным революционерам «удалые»: как известно, это один из традиционных эпитетов, применяемых в фольклорных песнях к разбойникам – равно как и выражение «на волюшке гулять»). Это лишний раз свидетельствует о том, что трансформации, вводившие в тюремные песни политическое содержание, могли происходить не только в результате целенаправленной переработки существующих песен (в этом случае привнесенные фрагменты, как правило, заметно отличаются от старых), но и как естественный процесс варьирования песенных текстов, происходящий, как правило, без нарушения в более поздних версиях жанрово-стилевых особенностей образца.
Помимо песен о политкаторжанах, попавших в заключение за сознательную борьбу с режимом, точки пересечения с тюремными имели также песни, повествующие о людях из народа (как правило, крестьянах), осужденных в результате произвола господ и властей или доведенных до преступления крайней нуждой. В некоторых из песен этого рода, помимо сочувствия герою и упреков судьбе, отчетливо звучит и критика социальной системы, и осуждение неправедной власти – как правило, в тех случаях, когда авторами стихотворений-источников были участники революционного движения. Так, песня «Ах ты доля, моя доля…» восходит к стихотворению, впервые появившемуся в 1873 году в вольной печати[13]. В ней герой-повествователь попадает на каторгу за то, что пытался донести до царя прошение крестьян:
Раз, в несчастный год голодный,
Стали подати сбирать,
И последние пожитки,
Всю скотину продавать.
Я от мира с челобитной
К самому царю пошел,
Но схватили на дороге,
До царя я не дошел.
(Усов 1940: 233, № 11; запись 1906 года)
Изначально стилизованное в духе народных тюремных романсов-ламентаций стихотворение быстро стало песней, получившей широкое распространение в различных вариантах, попадавшей в печатные песенники (cм., напр.: Ах ты доля, моя доля 1910: III; Песни революции 1905б: 4–5), неоднократно записывавшейся собирателями и до, и после революции (cм., напр.: Гартевельд 1912: 11; Усов 1949: 232–233). В процессе бытования песня обретала все больше черт, характерных для тюремной песенной традиции. Так, в текст достаточно устойчиво вошла никак сюжетно не мотивированная новая строфа:
Очутился я в Сибири,
В тесной шахте и сырой,
Здесь я встретился с друзьями.
Здравствуй, друг, и я с тобой!
(Гартевельд 1912: 11; см. также: Песни революции 1905б: 5; Гуревич 1938: 13; Тонков 1949: 73–74, 264; Бирюков 1953: 266)
Появилась и версия с дополнительным сюжетным ходом, делающим героя «убийцей по справедливости» – что весьма типично для тюремных песен-автобиографий (в частности, содержащих мотив убийства возлюбленной из ревности):
Я от жалости обидной
Сам к царю пошел,
Да дорогой задержался,
До царя я не дошел.
Мое сердце не стерпело,
Я урядника убил…
И за это преступленье
В рудники я угодил.
(Гуревич 1938: 13, запись 1936 года; см. также: Тонков 1949: 73, 264; Бирюков 1953:266)
При этом наиболее «крамольная» строфа оригинала:
И по царскому веленью, За прошенье мужиков, Его милости плательщик Сподобился кандалов.
(Сборник новых песен и стихов 1873: 25–26)
чрезвычайно редко встречается не только в песенниках, даже революционных[14], но и в записях[15],а в версии с урядником герой попадает на каторгу вообще не за попытку обращения к царю с крестьянской просьбой, а за убийство[16]. Так из песенного текста, попавшего в поле тюремной лирики, выветривались изначально содержавшиеся в нем элементы политической рефлексии – явление, обратное рассмотренному выше, но также имевшее место в процессе взаимодействия двух традиций.
Не исключено, что подобная же история (если не обратная) произошла с песней «Говорила сыну мать…». Приведем тексты двух наиболее ранних ее фиксаций: в сборнике, составленном Гартевельдом из материалов, записанных им в Сибири в 1908 году от арестантов и каторжников (слева)[17], и в печатном песеннике, изданном в 1910 году и названном по первым двум стихам этой же песни (справа):
Вспомню, вспомню, вспомню я,
Как меня мать любила
И не раз, и не два
Она мне говорила
Эх, мой миленький сынок,
Не водись с ворами
В каторгу-Сибирь пойдешь,
Скуют кандалами.
Котелки с собой возьмешь,
Конвой пойдет за вами,
Подкандальный марш споешь
С горькими слезами.
Вспомнишь ты старушку-мать
И родного брата.
Не утеприт ретивое
Ты убьешь солдата.
Прослывешь бродягой ты,
Будешь всех бояться,
Ночью по полю ходить,
Днем в лесу скитаться.
(Гартевельд 1912: 18, № 13)
Говорила сыну мать.
Ни водись с ворами.
А то в каторгу пойдешь,
Скован кандалами.
Поведет тебя конвой,
Ты заплачешь горько,
Будешь каяться во всем,
Не воротишь только.
И дадут тебе халат
С желтыми тузами,
Обольешься тогда, сын,
Горькими слезами,
Поведут тебя по всей
Матушке-России,
Сбреют волосы тебе
Вплоть до самой шеи.
Разотрешь в дороге ты
Ноги кандалами.
Будет гнать тебя конвой
Острыми штыками.
Запоешь в дороге ты
Песенки унылы,
Как покажутся тебе
Цепи все постылы.
Так, бывало, моя мать
Меня научила (sic!).
И всегда по голове
Гладила ласкала
И бывало я ее
С радостью и внемлю,
Но угодно было взять
Богу ее в землю.
А за нею тут же вслед
И отец скончался,
И на свете сиротой
Круглый (sic!) я остался.
Не убил не воровал,
Но любил свободу,
И на каторгу попал
По первому же году.
Был в деревне мироед,
С нами он не знался:
И над голым бедняком
За всегда смеялся.
Собралися мы на сход
Промеж нас читаем,
А купчина-мироед
Проходил случаем.
Он уряднику донес,
Что мы взбунтовались;
Нас отправили в тюрьму,
Чтоб не собирались,
А как вышел из тюрьмы,
Так побил купчину
В суд обжаловал меня,
И послал в чужбину.
Я не крал, не воровал,
А любил свободу,
И за что же я осужден
По первому же году?
Вспоминаю мать мою,
Как меня учила,
Коль теперь была б жива
Так б не говорила.
(Говорила сыну мать 1910: III–V)
Как нетрудно заметить, тексты значительно различаются не только объемом (5 и 16 строф), но и содержанием[18]. В варианте, записанном Гартевельдом, все ограничивается изложением заветов матери, рисующей сыну перспективу его преступно-тюремной биографии, которая заканчивается убийством конвоира и бродяжничеством; в варианте из песенника этот гипотетический финал жизни героя отсутствует, зато излагается реализованная биографическая история, которая контрастирует с предполагаемой, причем в качестве антагониста выступает, по сути, «классовый враг» – клеветник и доносчик «купчина»-«мироед», презирающий «голого бедняка». Естественно, что в первом случае песня свободна от какого бы то ни было неблагонадежного звучания, тогда как во втором, безусловно, присутствуют некоторые «политические» коннотации, которые как бы подытоживает последняя строфа: была бы жива мать, наивно полагавшая, что арестантами становятся только преступники, она бы увидела, что на самом деле прямой путь на каторгу – любовь к свободе и справедливости.
В отличие от предыдущего случая, относительно песни «Говорила сыну мать…» мы не располагаем данными, которые позволили бы признать одну из версий первичной, а другую – результатом ее трансформации. При этом каждый из текстов выглядит в своем роде абсолютно органичным: один – вполне типичная тюремная песня, сосредоточенная на описании арестантских и бродяжьих мытарств и использующая в качестве повествовательной рамки хорошо известный песенному фольклору мотив обращения матери к ребенку с наставлениями[19]; другой – стихотворение, рисующее историю безвинно пострадавшего простого человека, также весьма характерное для поэтической традиции второй половины XIX – начала XX века.
Ознакомительная версия.