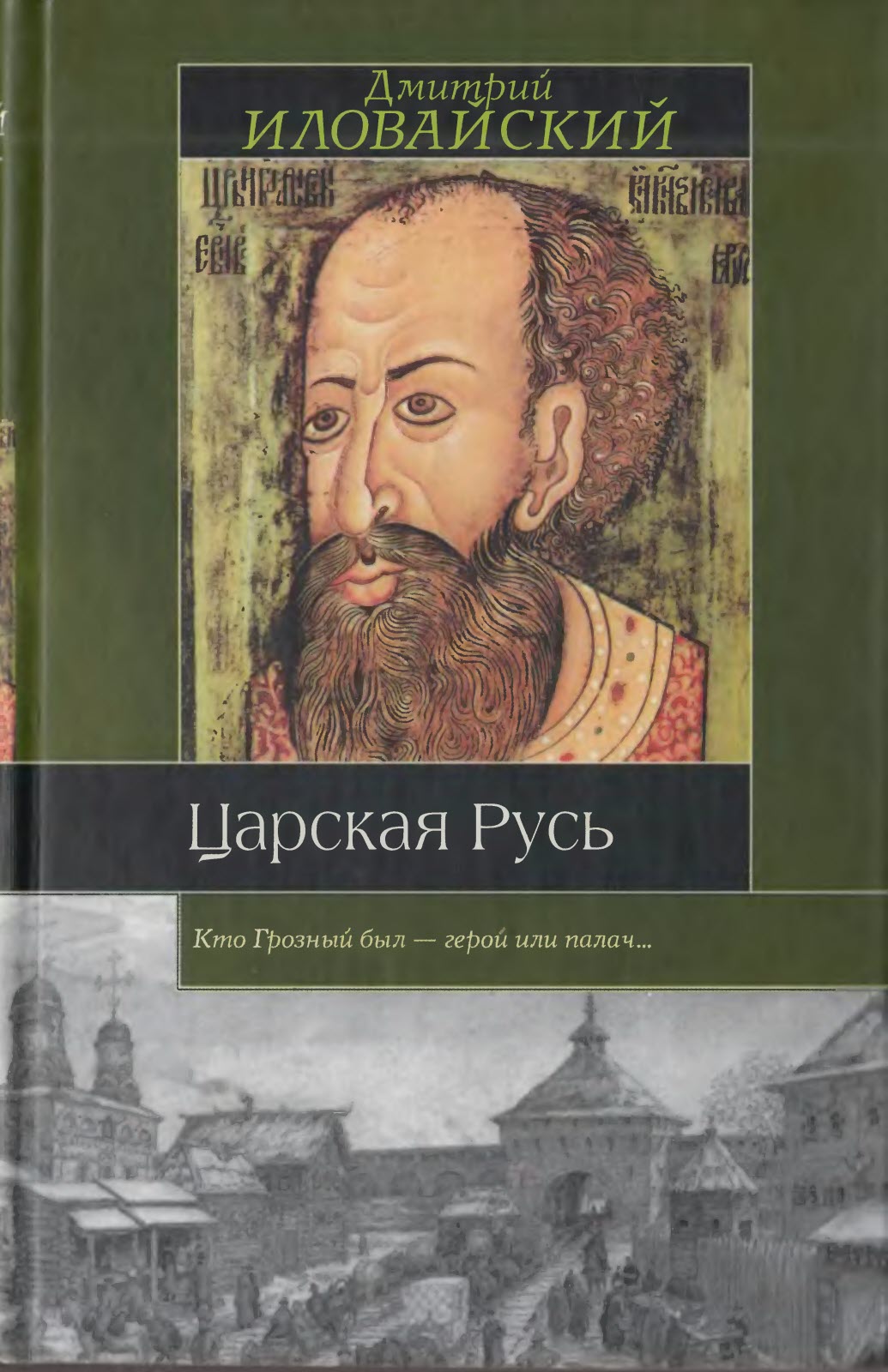переходом к отделению псковской епархии от новгородской. Однако дальнейших мер не последовало и прежнее положение удержалось еще на целые шестьдесят лет. Но именно в том же 1528 году умер скоропостижно дьяк Мунехин и погребен в помянутом Печерском монастыре. Может быть, с его-то смертью и пришла в забвение мысль об основании псковской епархии. После его смерти, по приказу великого князя, производился какой-то розыск об его «животах», т. е. об его имуществе, причем близкий Мунехину человек, подьячий Ортюша, подвергся пытке. По-видимому, дело это возникло по жалобе племянников Мунехина, обманувшихся в надежде получить от него большое наследство. У него найдены были только записи, кому и сколько денег он роздал на Москве (или в долг, или в поминок), боярам, дьякам и детям боярским. Великий князь велел все эти деньги взыскать в собственную казну. Летописец иронически замечает, что после Мисюря дьяки часто менялись и были они «мудры, а земля пуста, и начала казна великого князя во Пскове множиться, а из дьяков ни один не съехал по здорову в Москву, все воевали друг на друга». В псковских городах московские наместники утесняли и разоряли граждан, в особенности «подметом и поклепом», т. е. привлекая их к суду с помощью ложно взводимых преступлений.
Так окончила свое почти двухсотлетнее самобытное существование псковская община. Зависимость от Москвы была уже настолько велика, а меры, принятые Василием III, были так обдуманны, что присоединение Пскова совершилось без всякого пролития крови. Впрочем, материальными силами и политическими преданиями он не мог тягаться с своим старшим братом — Великим Новгородом. Не захотел он также изменять общерусскому отечеству и искать союза с исконными своими врагами немцами или вступать в подданство католического короля Польши и Литвы, чтобы противопоставить их Москве. К тому не встречаем никаких даже попыток, хотя во Пскове не было, конечно, недостатка в людях, предвидевших близкое падение самобытности. С глубокой скорбью, но тихо, с молчаливым достоинством подчинился Псков своей участи, и в этом отношении остался верен своему общему историческому характеру, бесспорно имеющему многие светлые, симпатичные стороны. Объединение Псковской земли с Московским государством, как мы видели, сопровождалось насильственным выводом или переселением ее лучших людей (впрочем, далеко не в таких огромных размерах, как в Новгороде) и важными перемещениями в самом городе. Все это, конечно, стоило больших экономических или имущественных потерь; затем объединение земли усилилось от грубости и неправо-судия московских наместников, тиунов и дьяков. Объединение, смешение с московскими переселенцами и влияние московских порядков не замедлили обнаружиться и на самих нравах. По замечанию наблюдательного иностранца той эпохи (Герберштейна) на место прежних гуманных и общительных псковских нравов появились испорченные московские; прежде в торговых делах псковичи отличались честностью и верностью своему слову, а теперь стали прибегать ко лжи и обманам. Хотя подобное свидетельство не чуждо пристрастия и преувеличения, но несомненно оно заключает в себе долю правды. Огрубение нравов, впрочем, по разным признакам, и здесь началось уже прежде {4}.
Покончив с псковскою самобытностью, московский государь возобновил борьбу с польско-литовским королем.
Заключенный в 1509 году мир оказался только небольшим перемирием. Пограничные ссоры и взаимные обиды не прекращались и служили постоянным предметом жалоб и пререканий с обеих сторон. Но главным поджигателем к новой войне, по-видимому, служил Михаил Глинский с его неудовлетворенным честолюбием и обманутыми надеждами. Сигизмунд опасался этого беспокойного врага и не раз, хотя тщетно, просил его выдачи, обвиняя его то в смерти своего брата Александра Казимировича, то в изменнических сношениях с датским королем. Глинский в свою очередь воспользовался положением вдовствующей королевы Елены Ивановны, чтобы обострить московско-литовские отношения. Устраненная по смерти мужа от всякой политической роли, Елена предавалась хозяйственной деятельности и попечениям о своих литовских имениях, данных ей Александром и Сигизмундом, разъезжала по своим волостям, выдавала разные грамоты относительно их управления, и, верная привычкам своего рода, копила себе большую казну. Василий Иванович, при частых посольских сношениях с польско-литовским двором, постоянно справлялся, нет ли каких обид его сестре, не принуждают ли ее к латинской вере, держат ли в чести? Очевидно, высшее католическое духовенство Польши и Литвы продолжало с неудовольствием смотреть на вдовствующую королеву, столь непоколебимую в своем православии; а под влиянием духовенства литовские католические вельможи также стали относиться к ней недружелюбно; вероятно, кроме того, они с завистью смотрели на ее имения и богатую казну. Как бы то ни было, только в 1512 году в Москву пришла следующая жалоба от Елены Ивановны: собралась она из Вильны, по обычаю, ехать в свое имение, в город Ярославль, куда послала уже наперед себя своих людей. Вдруг воеводы виленский Николай Радивиль и трокский Григорий Остыков с другими панами не только не пустили ее в Бреславль, но вывели ее из храма Пречистые, взяв за рукава; насильно посадили в сани и отправили в Троки, говоря, будто она хочет уехать в Москву со всей своей казной, а из Трок отвезли ее в жмудское местечко Вирштаны; именья и казну у нее отняли, — людей ее разогнали и держат ее в неволе.
Василий немедленно послал к Сигизмунду с запросами и укоризнами. Сигизмунд отвечал, что никакого насилия Елене не было, а только ее просили не ездить в Бреславль по причине небезопасности пограничных мест. Но вслед за тем пришло из Литвы другое более скорбное известие: Елена, находясь в неволе, внезапно скончалась. Дело не обошлось, конечно, без молвы о том, что смерть была насильственная. Такую молву особенно поддерживал Михаил Глинский, который узнал даже подробности этого темного дела и подал о них запись государю. А именно: Елена из своей неволи посылала к королю Сигизмунду жалобу на своих притеснителей, но король никакой управы не учинил. Тогда помянутые литовские паны умыслили на ее жизнь; они подкупили трех человек из прислуги, в том числе собственного ключника королевы, Митьку Иванова, и прислали им лихое зелье. Это и» лье подмешали в мед и дали испить королеве в четверг на всеедной неделе. К вечеру ее не стало. С той вестью пригнал в Вильну к панам ключник Митька. Николай Радивил принял его на свою службу и наградил имением. Правда ли все это, о том историку приходится сказать вместе с русскою летописью: «Бог весть». Но невероятного тут ничего нет.
Другая еще более важная причина разрыва заключалась в коварной политике Сигизмунда по отношению к Крымской орде. Усердными подговорами, подарками хану, его царевичам и вельможам Сигизмунду удалось разрушить долголетний союз Менгли-Гирея с Москвою и вооружить против нее Орду. Несмотря на недавно заключенный