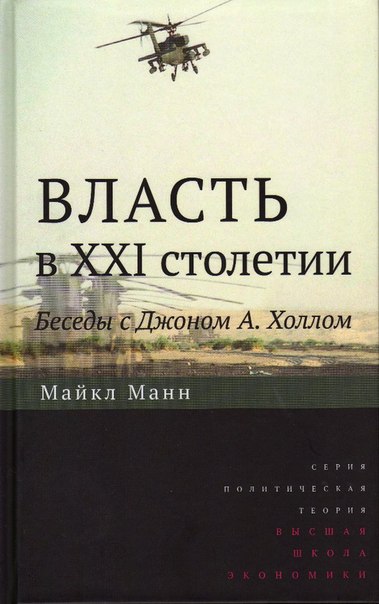революции Ростоу, которая в настоящий момент полностью дискредитирована), а скорее кумулятивный процесс устойчивого медленного роста вначале на 1 % в год до 3 % (но не больше) в середине XIX в. Период обгона наступил до глобального доминирования. Только во второй половине XIX в. западные державы действительно стали доминировать в Восточной Азии, хотя, разумеется, Япония успешно этому сопротивлялась. Западное доминирование продлилось по меньшей мере два века. Но это был единственный период истории, когда какой-либо регион мира глобально доминировал. Возможно, объяснение этого обстоятельства следовало бы начать с более раннего периода. Но никто не упрекает меня в том, что объяснение датируется гораздо более поздним периодом, или в том, что точное объяснение должно игнорировать какой-либо из четырех источников социальной власти.
Тем не менее мое объяснение «европейского чуда» не идеально. Я фокусировался на воздействии милитаризма на отдельные государства и был склонен недооценивать его роль в уничтожении многих из них, а также возможностей, создаваемых при этом для европейской заморской экспансии. Я также недооценил вклад европейской научной революции в «европейское чудо», хотя это и не является основным недостатком, поскольку развитие науки зависит от поддержки со стороны рыночного спроса, от государственной и военной гонки за технологическое превосходство, а также от религиозной нагруженности мысли, которая рассматривала науку как раскрывающую божественные законы (я объясняю это в статье 2006 г.). Важнее то, что сейчас я дал два действительно различных общих объяснения «европейского чуда». Как отмечает Андерсон (Anderson 1992: 83), после того как я суммирую вклад всех четырех источников власти, я утверждаю (на с. 704–705): «Один фактор — христианский мир я выделяю как необходимый для всего, что последовало. Остальные факторы также внесли значимый вклад в результат, однако были ли они необходимыми — это другой вопрос». Андерсон комментирует с некоторой иронией, что «неожиданно героем всего романа оказывается католическая церковь». Мне казалось, что я достаточно смягчил этот акцент, но оказывается нет. Пожалуй, я действительно погорячился с выводом, процитированным выше. Он вступает в противоречие с другими корректными объяснениями, предложенными мной в этой книге. То есть, утверждая, что «европейское чудо» объяснялось большей ролью конкуренции в Европе, чем где бы то ни было еще, я не имею в виду исключительно экономическую конкуренцию. Как я уже отмечал, средневековая Европа располагала большим количеством конкурирующих коллективных акторов, прежде всего классов, а также коллективных акторов иного рода: деревня против поместья и монастырской экономической единицы, феодалы против городской буржуазии и гильдий, государства, сражающиеся с другими государствами и церковью. Но все это не было результатом Гоббсовой войны всех против всех, поскольку интенсивность конкуренции в основном регулировалась нормативной солидарностью, предоставляемой христианским миром (или более точно — западным христианским миром). Солидарность была на более низком уровне, но если бы христианство было более напористым, оно могло бы полностью задушить эту конкуренцию. Все эффективные рынки (общества) нуждаются в нормативной регуляции, о которой социологам известно начиная с Дюркгейма. В современных экономиках и государствах она обеспечивается в основном посредством права. В силу своего происхождения большинство европейских государств, а также католическая церковь обладали различными комбинациями основанного на обычае (германского) права и статутного [4] (романского) права, которые также играли определенную регулирующую роль. Однако законное право постоянно оспаривалось, и именно церковь доминировала в поддержании нормативной регуляции, по крайней мере до протестантского раскола. Как известно, по вопросу религии я больше заимствую у Дюркгейма, чем у Вебера, поэтому утверждаю, что регуляция в большей степени осуществлялась через ритуал, чем через догмат.
Мой заключительный аргумент в последних главах этой книги сводится к тому, что имели место две необходимые общие причины «европейского чуда», а не только интенсивная конкуренция в европейском обществе, в которой были задействованы все источники власти, однако она регулировалась нормативной солидарностью христианства. Я осознаю, что мне следовало четче продемонстрировать это раньше. Мне также не следовало создавать впечатление, что «все шло своим чередом» в период Средневековья. Например, в главе 12 в разделе, посвященном резюме моего аргумента о «европейском чуде», я утверждаю, что все необходимые для него условия уже существовали к 800 г. н. э. Как только критики заметили это и подняли меня на смех, я понял, что это был как раз один из тех моментов, в которых энтузиазм притупляет рассудок автора. Я действительно демонстрировал, что развитие условий было растянутым на века и кумулятивным процессом, который неравномерно распространялся по Европе по мере сдвига власти на северо-запад континента. Он мог сбиваться с курса дальнейшими завоеваниями с востока или экономическими и демографическими кризисами. Если бы Непобедимая армада одержала победу, Англия, вероятно, никогда не стала бы передовым фронтом власти, и кто знает, какую форму приняла бы в этом случае промышленная революция. Но поражение Армаде нанесло не столько английское военно-морское искусство, сколько шторм — это была чистая случайность. Институты капитализма, усовершенствованного милитаризма и современного государства имели в своей основе не ровное, а упорное развитие. Они могут быть представлены как структурные, но их нельзя рассматривать как всего лишь статичные, институционализированные декорации, которые могут быть разрушены взрывом интерстициальной власти. Иногда структурные изменения являются результатом мириады меньших изменений. Первая паровая машина Ньюкомена появилась уже в 1713 г., хотя Джеймс Ватт начал эффективно ее использовать в 1763 г., а сотни инженеров продолжали совершенствовать еще на протяжении 150 лет после Ньюкомена. В последней главе я поясняю, что постфактум европейская динамика выглядит систематичной, и она действительно была довольно устойчивой, но если приглядеться к ней поближе, то можно обнаружить, что многие причинно-следственные связи были сложены вместе и иногда это происходило довольно случайно.
Я начал свой проект с того, что задал себе «вопрос Энгельса»: был ли один из четырех источников власти решающей причинно-следственной силой в структурировании общественных отношений (он утверждал, что экономическая власть в конечном счете является решающей). Мой ответ, скорее, веберианское «нет», хотя я и не начинал с этого как с исходной предпосылки работы, и концу тома проделаю лишь одну четвертую часть на пути к попытке ответить на этот вопрос эмпирически. Но экономика, государство не представляют собой структуры, существующие статично и оказывающие перманентное воздействие на социальное развитие. Они, напротив, имеют эмерджентные свойства, поскольку возникающие из их частиц и элементов новые композиты неожиданно оказываются релевантными для более общего социального развития и становятся частью новой институциональной силы. Представляется, что у этих процессов нет общей и единственной оформляющей их силы. Таким образом, все, чего мне удалось достичь на настоящий момент, — это обобщения для отдельных периодов, большинство из которых многослойны, как пробные, противоречивые и уязвимые для эмпирических исследований следующих десятилетий