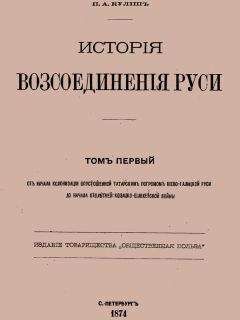Польский двойник Хмельницкого, в случае успеха, доконал бы шляхетскую республику, и на широком пространстве между двух морей были бы поруганы предания о деятельности культурников республиками или ордами антикультурными.
Но шляхта и мещане вовремя вооружились, и Костка был выдан собственным гарнизоном. У него нашли универсалы Хмельницкого, возбуждающие чернь к овладению Краковом и к истреблению шляхетского сословия. Наливайкова мысль, как видим, переходила в Польше из поколения в поколение: она пришлась по душе темной, злобной и ленивой массе, на которой выехала Хмельнитчина.
С субъективной точки зрения малорусских летописцев и историков, польская шляхта должна была бы растерзать своего предателя, как терзала в Варшаве измышленного ими Остряницу. Вместо того, враги затеянной Косткою в Польше казатчины относились к нему без всякой суровости, и только сожалели о его безумстве. Следует помнить, что столь же мягко отнеслись они и к выданному им казаками Наливайку. С своей стороны и польский Хмель до конца сохранял ясность и присутствие духа, точно как будто считал свой замысел великодушною попыткою к спасению отечества от его беспутства. Даже когда его везли привязанного в телеге через Краков, он весело посматривал на толпившийся народ, и так как все фанатики принадлежат к идеалистам, а идеалистам свойственны и в отчаяньи, как в успехе, самые крайние грезы, то — кто знает? может быть, ему в толпе труждающихся и обремененных виделись будущие мстители хмельничане за погубленную славу его отца, величайшего по замыслам из всех монархов, особенно в глазах сына...
Государственная Фемида взяла с несчастного Костки полную дань: его пытали самыми жестокими средствами. Но он был нем, когда его допрашивали о сообщниках: все же, что составляло его собственные преступления, высказывал он даже в преувеличенном виде. Здесь проявился в нем побочный королевич, сын Владислава. 11 июля посадили Костку на кол, что король мог бы заменить иною казнью, но он был — Ян Казимир. Костка принял страшную казнь спокойно.
По поводу этого события, паны засвидетельствовали перед нами, что Оссолинские да Яны Казимиры были между ними выродки.
«Не понравилась полякам эта казнь» (говорит современный наш историк). «Молодость Костки, уважение к покойному королю, отвращение к Яну Казимиру, все соединилось для того, чтобы преступление бунтовщика с каждым днем уменьшалось и уменьшалось. Шляхта Краковского воеводства (в инструкции послам на варшавский сейм) назвала своего разбойника легким человеком. В Варшаве вообще думали, что надобно было пользоваться победою под Берестечком и, вместо Костки, казнить Хмельницкого; а Коховский отпустил королю весьма прозрачный сарказм в следующем двустишии:
«Nie wiem, со to za nowy kucharz sie pojawil:
Miasto pieczeni, Kostke nam na rozen wprawil» [56].
При этом впоминается Петр Могила, угрожавший таким рожном родному брату Иова Борецкого...
Зато шляхта, вернувшаяся из-под Берестечка, была вне себя от того, что ей готовили хлопы. Всюду начались розыски и суды, а в Краковском воеводстве целые села бежали в горы, жили разбоем, а не то — перебирались на венгерскую сторону Карпат. «В глазах польской шляхты» (пишет польский историк) «хлопское движение заслуживало большей кары, нежели казацкий бунт, потому что оно было неожиданным, производилось обманом, метило в безоборонные семейства и ознаменовало себя изменою, вопиющею о мщении».
В связи с хорошим делом казацкого батька в Краковщине, шесть русских шляхтичей православного исповедания работали по его же внушению в Познани и в Великой Польше. Они сперва прикинулись беглецами от казацкого террора, но в самый разгар войны составили из местных крестьян гайдамацкую шайку, которая начала возмущать народ обыкновенными казацкими способами — соблазном и запугиваньем.
Тогда князь Чорторыйский, с пятью сотнями всадников, разогнал и казнил четверых поборников православия; два остальные бежали к Хмельницкому, а разнесшийся вслед за тем слух о бегстве казаков из-под Берестечка окончательно успокоил землевладельцев на счет малорусских возмутителей Польши.
Если нас, наслаждающихся внутренним и внешним спокойствием, воображение терзает картинами прошлого и через два с половиною столетия, — терзает, можно сказать, вчуже, то каково было на сердце у тех, которые принесли столько великих жертв и потом, и кровью для превращения пустошей в цветущие колонии, и теперь видели «мерзость запустения» на святых для них по памяти былого местах! Освецим, по возвращении из экспедиции против Костки, бросил на эти места свой поэтически грустный взгляд, томительный и для польского, и для русского чувства.
«Августа 21» (пишет он) «приехал я в свое имение Закоморье, которое сильно опустошили и неприятели, и наши собственные жолнеры. Я прожил здесь несколько дней. В это время ездил я в Берестечко, для того чтобы осмотреть местность, прославленную столь важными битвами и победою. Я видел неприятельские окопы, весьма крепкие, как по местоположению, так и по произведенным фортификациям. Затем посетил я Броды, резиденцию покойного великого гетмана, Конецпольского. Город сожжен до основания; остался только замок, укрепленный наподобие голландских крепостей и превосходящий все другие замки роскошью украшений. В минувшие годы крепость эта выдержала в течение 12 недель осаду от 36.000 казаков, и успешно их отразила. Видел я также местечко Леснев. Оно все было обращено в пепел татарами, когда они впервые шли атаковать наше войско. С глубоким сожалением осматривал я Подгорцы, славившиеся некогда во всей Польше крепостью и прекрасным дворцом, украшенным фонтанами, гротами и каскадою. Дворец этот выстроил гетман Конецпольский, предназначив его служить местом отдыха после утомительных военных походов и других услуг Речи Посполитой. Мысль эту выразил он в следующей надписи, вырезанной на мраморной доске, помещавшейся над воротами:
Sudaris Martis — victoria,
Victoriae — triumphus,
Triumphi praemium — quies [57].
Глава XXVIII.
Поход панского войска из-под Борестечка в Украину. — Мародерство производит общее восстание. — Смерть лучшего из панских полководцев. — Поход литовского войска в Украину. — Вопрос о московском подданстве. — Белоцерковский договор.
Между тем паны колонизаторы шли с расстроенным и деморализованным королевскими порядками войском для завоевания своих имений, не принимая в соображение важного обстоятельства, что землевладельцы малорусские давно уже сделались иностранцами в глазах того класса туземцев, который был хранителем нашей национальности и нашей религиозной совести. Не обращали паны внимания и на то, что даже такие между ними, которых наши псевдоисторики величают святопамятными, отправляя своих сыновей в чужие края, напутствовали их словами:
«Помни, мой сын, что ты — поляк». Каковы бы ни были их доблести и права в собственном сознании, но Малороссия отвергла их еще до казацких бунтов устами лучших людей своих, и теперь им оставалось только завоевать родной свой край у худших.
Варшавский Аноним так исчисляет силу этих conquerrados новосозданной Польшею Америки: компутового войска было 18.000, пехоты 6.000; посполитое рушение, отходя, прибавило к ним несколько способных к походу (wyprаwnych) хоругвей, заключавших в себе 7.000 человек. В этом войске находились паны с собственными дружинами, как-то: князь Иеремия Вишневецкий, воевода русский; Станислав Потоцкий, воевода подольский; Лянцкоронский, воевода брацлавский; Щавинский, воевода брестокуявский; Павел Сопига, воевода витебский; Одривольский, кастелян черниговский; Цетнер, кастелян галицкий; Самуил Калиновский, обозный коронный; Пршиемский, генерал артиллерии; Марк Собиский, Вишневецкие, Даниловичи и другие русские паны; одних Потоцких было девять ротмистров, как в Риме против Вольсков (замечает наивно Аноним) девять Фабиев.
К панам, еще до выступления в поход, приходили о хане и Хмельницком различные вести. Не обладая казацкою способностью разведыванья, паны проверяли эти вести другими способами, и так как многое зависело от того, где и как обретаются два главные беглеца, то свидетелей допрашивали под присягою. Одна шляхтянка из-под Константинова клялась, что 1 июля, следовательно на другой день после бегства, видела в Константинове, как вязали Хмельницкого к коню среди народа, и слышала, как хан кричал на него: «Я пошлю тебя к королю и выкуплю тобою моих мурз». Другие рассказывали, что коня, к которому привязали Хмельницкого ногами под брюхом, гнали нагайками впереди хана до самого ночлега.
Но скоро видели Хмельницкого свободным. В Любартове кормил он лошадей. При нем было несколько казацких старшин и 2.000 татар. Старый Хмель спокойно обедал, и с двумя возами, полными съестных припасов, отправился в дальнейший путь. Говорили еще, что, отъезжая в Крым, хан оставил Хмельницкому 10.000 татар, которые должны были кочевать за Уманем, над Синими Водами, с тем чтобы сохранить за Хмельницким его власть, если бы его подданные вздумали бунтовать.