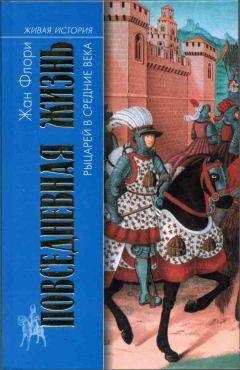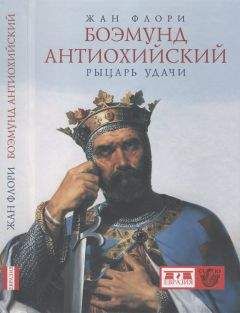У Кретьена де Труа рыцарская этика делается несколько менее грубой. В самом деле, впервые рыцарство получает определение как корпорация, членство в которой предполагает известные моральные обязанности. Когда доблестный Горнеман де Гоор «делает» Персеваля рыцарем, то, вручив ему меч, открывает перед ним вход в самый высокий орден из созданных Богом:
Это орден рыцарства,
Который должен быть чист от любой низости{31}.
Что это значит? Горнеман разъясняет в двух правилах, которые Кретьен де Труа постарается позднее передать всему рыцарству. Первое из них — приходить на помощь дамам и благородным девицам, лишенным опоры; второе — не убивать предумышленно рыцаря, который признает себя побежденным и просит пощады.
Эти два требования и в самом деле будут соблюдаться рыцарями как на страницах романов, так и в реальной жизни. У Кретьена де Труа особенно знаменательно отсутствие призыва к покровительству Церкви и клира. Рыцарской защиты бедных и слабых в его романах также не видать; нет там ее и относительно сирот и почти что нет относительно вдов; помощь женщинам принимает у него скорее характер галантного поведения — это всего лишь предлог для демонстрации рыцарской доблести. Ланселот бросается на помощь Геньевре, так как влюблен в нее, но отнюдь не в силу рыцарского долга; другим женщинам, которым грозит насилие, но которые для него никакой привлекательности не представляют, никакой помощи идеальный рыцарь не оказывает, так как слишком занят поисками святого Грааля. Долг помощи женщинам у Кретьена де Труа и его последователей принимает светскую окраску и приводит к появлению образа рыцаря, находящегося в услужении у дамы, согласно правилам куртуазного тона; такое служение равносильно тому, что Церковью осуждается как суетная слава.
Что касается «пощады», провозглашаемой героями рыцарских авантюрных романов, то она должна быть признана главным стержнем рыцарской этики, которая пропагандировалась подобной литературой{32}. И не без успеха: если поверить Гильому Мальмсберийскому (de Malmesbury), Вильгельм Завоеватель будто бы изгнал из своего воинства рыцаря, который принес отрубленную им голову Гарольда, короля англосаксов, который был ранен и, следовательно, не мог оказать сопротивления{33}. «Песнь о Гильоме» («О Вильгельме Завоевателе». — Ф.Н.) тоже излагает тот же эпизод, но в другой редакции. В битве с неверными Гильом, сойдясь в поединке с королем мусульман, ударом меча отрубил у него ногу выше колена и тем низверг его из седла на землю; юный Ги, увидев бьющегося на траве «языческого» короля, подбегает к нему, обнажает меч и отрубает ему голову, что вызывает гнев Гильома. Тот кричит на своего рыцаря: «Мерзавец, гадина! Как смел ты поднять руку на раненого человека?! Ты предстанешь перед моим судом!»{34} Приведенный отрывок позволяет постулировать существование неписаного кодекса чести, который запрещает добивать поверженного на землю и раненого врага. Однако Ги оправдывает свой поступок мотивами общей пользы: у сарацина, конечно, нет больше ноги, но ведь у него остались гениталии! От него еще может родиться король, который предпримет поход на наши земли! Это суждение (применимое, кстати, и к противникам-христианам) полностью убеждает Гильома, который с похвалой отзывается об уме столь молодого человека. Сам он позднее без колебаний отрубает голову Альдеруфу в сходных обстоятельствах. Выше уже много говорилось о том, насколько близки одна к другой моральная и утилитарная стороны рыцарского кодекса именно в вопросе о «пощаде». Нет особых причин возвращаться к сказанному, а потому ограничимся здесь лишь констатацией знаменательного явления — постепенного «выцветания» и схождения на нет темы «пощады» в рыцарских романах начиная с XIII века: в «Поисках (Грааля)», как и в прозаическом варианте «Тристана», честь смешивается с гордостью, доблесть — с немотивированным насилием, а крик о пощаде воспринимается как военная хитрость, которая, впрочем, никого уже не может обмануть{35}. Рыцари к нему больше не прибегают.
Из чего же тогда «сколочена» рыцарская идеология? Ее краеугольные камни — Доблесть, Щедрость и Куртуазия[19]. Остановимся же на этих терминах и на их сущностных связях с рыцарством. В стихотворном «Романе об Эле», написанном в начале XIII века, его автор Рауль де Удан (de Houdenc) пускается в аллегорические разъяснения «двух крыльев Доблести». Сама Доблесть понимается им как реноме, как ценность воина, пользующаяся признанием, вызывающая уважение и притягивающая к себе похвалы, на которые столь охоча аристократия. Итак, два крыла Доблести — это Щедрость и Куртуазия. Каждое из них состоит из семи перьев (семь, как известно, число, символизирующее совершенство). Крыло Щедрости — это способность давать, давать смело и без оглядки, без расчета и без сдерживающих размышлений, ничего не ожидая взамен, даже и не вспоминая о том, что дано; это — держать свой стол открытым для каждого, кто пожелает разделить с хозяином трапезу; это — держать свои руки открытыми для всякого, кто чает материальной помощи. Крыло Куртуазии может быть сведено к кодексу правил хорошего тона. Избегать высокомерия, зависти, бахвальства, злоречия — все эти черты не к лицу рыцарю; любить веселье, песни и дам, любить их всем сердцем, несмотря на причиняемые рыцарю муки любви. И только одно «перо» содержит ссылку на Святую Церковь: рыцарям полагается ее хранить. Это напоминание о первейшей рыцарской обязанности занимает всего 15 стихов из 642. Поэма в целом ориентирована на чисто светские и аристократические аспекты рыцарства{36}.
Щедрость, столь восхваляемая как в эпической поэме, так и в романе, в своих истоках вовсе не специфичная именно для рыцарства черта. Это, скорее, черта аристократическая, даже королевская, рыцари же были первыми, на кого изливались щедроты и высокой знати, и короля. Вас и Бенуа из Сент-Мора (Wace et Benoît de Sainte-Maure) славят государей, которые, подобно герцогам Нормандским, умеют показать свое великодушие и сделать широкий жест по отношению к своим рыцарям, вассалам, наемникам, в отличие от великого множества сиров (здесь: сеньоров. — Ф.Н.), самым выдающимся примером которых служит Рауль Торта: он копит деньги, словно буржуа, и не расстается с ними, чтобы оплатить верную рыцарскую службу{37}.
Щедрость, почти обязательная по отношению к бедным рыцарям, выполняет в северофранцузской литературе на языке дойль (d'oil) функцию шаблона, переходящего из одного произведения в другое. «Роман об Александре» (вторая половина XII века), герой которого становится надолго моделью рыцарственного монарха, то есть доблестного воина, причем щедрого к своим солдатам, в свою очередь, служит шаблоном, по которому выкраиваются схожие сюжеты. Итак, Александр, следуя советам своего отца Филиппа и воспитателя Аристотеля, собирает вокруг себя воинов со всего королевства и распределяет между бедными рыцарями богатства, конфискованные им у ротюрье{38}: вот пример, достойный подражания! Король Артур (в романе «Перльво») идет по стопам Александра Великого во многих отношениях, но не во всех. Он собирает при своем дворе лучшее в мире рыцарство, но, на свое несчастье, забывает прибегнуть к крайней экономической мере, и рыцари Круглого стола, разочарованные скуповатостью своего сеньора, покидают его и отправляются искать удачи под другими небесами{39}. Упадок королевской щедрости (излюбленная мишень для критических высказываний моралистов) толкает рыцарей на преступления, как это показывается в романе «Рыцарство Божие»; его автор чистосердечно советует государям платить своим рыцарям сполна и в установленные сроки — иначе доблестные воины будут просто вынуждены обратиться к грабежу{40}. Щедрость, следовательно, способствует внутреннему миру и социальному согласию. Рыцари же в литературе изображаются главными, если не единственными, ее пользователями.
Щедрость — не подаваемая нищему милостыня и не приношение в церковь по обету или во искупление грехов. Она отличается и от того, что в будущем будет называться благотворительностью, предназначенной для помощи обездоленным. Это — дар, это — благодеяние социального порядка, призванное скрепить единство рыцарства как корпорации, привязать к патрону рыцарей, которые ему служат, то есть Кёлер усматривал в щедрости рыцарскую добродетель, первоначально проповедовавшуюся мелким дворянством, но затем воспринятую высокой знатью как идеологический цемент для всей аристократии в целом{41}. Смысл феномена может быть понят и иначе. Д. Буте (Bouter) справедливо замечает, что объяснение щедрости как социального фактора, будучи в основе верным, все же само по себе не решает проблемы. Щедрость даже короля Артура имеет и политическое содержание, так как является манифестацией, первым выражением суверенитета. Бедное рыцарство лишь позднее подхватило как собственное знамя идеал щедрости, повернув его себе на пользу{42}. Из этой дискуссии я делаю тот вывод, что щедрость как принцип поведения постепенно спускалась с королевского уровня на княжеский, с него — на уровень сеньоров — нетитулованных владельцев замков («шатленов»), прежде чем сделаться «рыцарской». Во второй половине XII века это движение, расширяясь, уже проделало большую часть своего пути; таким образом, наиболее любопытным представляется не то, что рыцари восхваляют королевскую и княжескую щедрость, которой живут, а то, что сами рыцари, копируя грандов, усваивают идеологические модели последних. Щедрость становится рыцарской добродетелью, когда, в соответствии с феноменом скольжения, неоднократно отмечаемом в этой работе, рыцарство усиливает свой аристократический характер и стремится смешаться с дворянством, чтобы образовать единую касту.