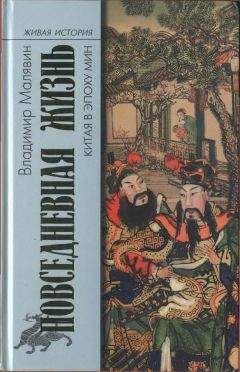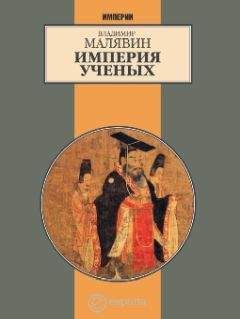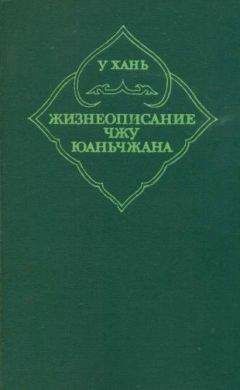В акте рассеивания, или, по-другому, разграничения, размежевания, свершается интимное единение Хаоса и человеческой практики. Метаморфоза бытия и предметная деятельность человека едины в их предельной конкретности. Так философема «Небесной сети» в китайской традиции оправдывала единство природы и культуры, а самое понятие культуры в Китае, как мы уже знаем, восходило к представлению о «непостижимо-затейливом узоре» (вэнь) вещей. Для ученых людей минского Китая классификационные сетки культуры коренились непосредственно в многообразии мира. Классическое суждение на эту тему принадлежит ученому Чжан Хайгуаню (VIII век), писавшему: «Каждое дерево, каждая травинка обладают собственным качеством жизни и не хотят, чтобы оно осталось втуне. Тем более это верно в отношении тварей земных и небесных, а в особенности людей. Облик зверей и птиц всегда неодинаков, и искусство письма следует этому разнообразию».
В эстетическом видении мира-Хаоса каждый момент рассеивания полностью самодостаточен. Но диффузия без конца уже неотличима от собирания. Мир на китайской картине всегда открывается взору, обращенному вовнутрь, и внушает опыт внутреннего единства формы. Поэтому в китайской живописи вневременное присутствует в каждом миге развертывания картины. Фрагментарность — один из основных принципов китайской эстетики, особенно в минскую эпоху. Он заявляет о себе и в распадении картины на самостоятельные (хотя и пронизанные «одним движением» кисти художника) микросюжеты, и в смелых срезах фигур, и в тяготении минских живописцев к малым формам — листам альбома, веерам и т. п.
Примечательно, что среди модных в XVII веке фантасмагорических «пейзажей сновидений» нередки вертикальные композиции, где виды отвесных скал и глубоких ущелий, низвергающихся с заоблачных круч водопадов и вытянувшихся к небесам деревьев создают впечатление грандиозной, головокружительной высоты. Такие пейзажи подтверждают высказанную выше догадку о том, что «реалистическая фантастика» тогдашней живописи обнажала вертикальное, иератическое измерение символизма традиции и в этом смысле представляла собой высшую фазу символизма в изобразительном искусстве Китае. Будучи воплощенным, объективированным разрывом в опыте, она выявляла и предел традиционного, типизировала традицию.
Если говорить шире, присутствие в пейзаже «драконьих вен», приоткрывающее в ритме его явленных образов символическое пространство Великой Пустоты — сокровенный мир «вольных странствий» духа, внушает всё ту же идею преемственности внутреннего видения в потоке мимолетных видений. Перед нами, в сущности, живописное воплощение символического тела традиции, сотканного из образцовых, так сказать, архетипических форм, лиц и событий, которые всегда видны лишь отчасти, даны во фрагментах, проявляются то с одной, то с другой своей стороны, творят поле летучих отблесков сознания, чарующего мерцания смысла. Но все эти проблески и мерцания сокровенного «летучего света» (каковой и является, по Дун Цичану, правда просветленного сердца) указывают на «Одно Превращение» бытия — претворение всех видимых тел в одно всеобъятно-пустотное Тело Дао.
О символической глубине образов, глубине мира, зримого в зеркале, свидетельствует понятие «следа» — одно из ключевых в китайской традиции. Следами, или тенью, «подлинности» вещей в Китае называли все явления мира, в том числе и живописные образы. След есть знак действия; он принадлежит практике и указывает на динамизм бытия. Неудивительно, что в Китае философему следа соотносили преимущественно с наследием культурных героев — в частности, с каноническими текстами. Между тем след никогда не подобен предмету, его оставившему. Удостоверяя реальность как отсутствующее, след и сам реализует себя в самоустранении. Он есть знак чистой текучести пути, выполняющий функцию сокрытия, стирания.
В китайской традиции мир следов Дао имел статус вторичного означения, знака космического узора, различия в различии. Поэзия, заявлял авторитетный критик XIII века Янь Юй, — это «эхо в ущелье, луна в воде, образ в зеркале, отблеск на поверхности. Слова кончаются, а воля не имеет конца». Суждение Янь Юя отчасти напоминает платоновское толкование искусства как «тени теней». Но мы знаем, что в китайской традиции символическая глубина опыта непосредственно изливается в чистую явленность, декорум бытия и человеческое творчество, маска и прототип признавались равно реальными, а культурная практика не противопоставлялась всеединству Одного Превращения.
Минские знатоки отзывались об образцовых каллиграфических надписях в следующих словах: «След, тянущийся на тысячи ли и исчезающий в недоступной дали». Едва ли найдется формула, более откровенно выражающая китайское понимание творчества как ускользающей встречи вечно несходного — абсолютно внутреннего и абсолютно внешнего, где внутреннее символично, а внешнее декоративно. Взмах кисти китайского художника, неизбывная «одна черта» живописи наполняют мгновение вечностью, сталкивают с бездонной глубиной бытийственности — и оставляют на поверхности нашего восприятия. Имя этой недостижимой встречи сокровенного и явленного — Срединный Путь, «таковость» (цзы жань) всего сущего как внутренняя определенность вещей, преображенных в тип.
Родословная вещей выявляется в символической глубине «таковости» бытия. Ее выявление не имеет ничего общего с поиском причинно-следственных связей. Оно есть искусство установления различий, познания уникальности вещей и, следовательно, возвышенных качеств существования. Генеалогию нужно не объяснять, а именно прослеживать, вечно возвращаясь к предельности Великой Пустоты. Это выведение всех метафор на поверхность, составляющее загадку трюизмов классической словесности Китая, заставляет вспомнить совет древнего поэта Тао Юаньмина: «много читать, но не искать с усердием чрезмерным глубоких объяснений ко всему» (перевод В. М. Алексеева).
Слова Тао Юаньмина служат напоминанием — а современный человек нуждается в нем более, чем когда бы то ни было, — что чтение вовсе не обязательно должно совпадать с аналитическим пониманием, что оно может быть ценно само по себе и способно не только давать знание, но и, напротив, освобождать от знания; что чтение может быть работой чутко внемлющего духа, которая выводит сознание на свет его собственной открытости бытию, где мир и сознание друг друга охватывают и проницают. Чтение как разыскание предвечного Тела и абсолютного Желания вновь и вновь сталкивает с неподатливой твердью слов, ставших плотью, разросшихся необозримой паутиной ассоциаций, веющих непроницаемой глубиной забвения. Здесь теряет свою силу организующая сила субъекта, и текст уже не поддается разъяснению, становится предметом нескончаемого созерцания, взращивающего невозмутимый покой души. Нет, не случайно Гао Паньлун в своем горном уединении созерцал письмена «Книги Перемен» на сон грядущий. И для его современника Хун Цзычэна медленное, углубленное чтение — тоже врата в волшебно-смутный мир легкого скольжения по поверхности вещей в упоительно-сладких грезах, мир неисповедимо-легких метаморфоз «алхимии Хаоса»: «Подремли с книгой у окна, заросшего бамбуком. Очнешься и увидишь: луна закралась в истертое одеяло…»
Литератор XVII века Ма Данянь приводит даже целый перечень ситуаций, в которых чтение и приятная дрема оказываются неразлучны. Хорошо задремать, пишет он, «вдумчиво читая книгу под шум ветра и журчание вод». Сладко засыпать, продолжает он, «когда от долгого чтения смыкаются веки». Хорошо дремать среди дня после того, как «перелистаешь книгу, лежа за ширмой на бамбуковом ложе и облокотившись на каменный подголовник»…
Прослеживать родословную вещей — значит погружаться в сон. Каждый видит сон внутри себя, у каждого только свой сон, всё внешнее может быть только отблесками сновидений, подобных, как уже говорилось, чисто формальным критериям классификации предметов в музейных коллекциях или знакомым нам бесчисленным китайским перечням «привходящих условий» или существенных нюансов любого дела. Древние бронзовые сосуды — антикварные предметы par excellence в Китае — служат хорошей тому иллюстрацией: их ценили не за то, что они могут что-то вмещать в себя, а за декоративные свойства материала, за покрывающие их стенки древние знаки или узор, напоминающий первозданные письмена. Одним словом, в древнем сосуде важно не его предназначение, а поверхность. С другой стороны, те же сосуды считались обозначением отдельных гексаграмм «Книги Перемен», которые являли собой как бы невообразимый «подлинный» образ вещей. Наглядные качества сосуда каким-то образом откликались непостижимой глубине его присутствия.
Чудесная близость сна и яви в дреме, союз бдения и расслабленности духа, воли и непроизвольности в «глубокой думе» — вестники вселенского ритма жизни, свидетели глубочайшего чувства музыкальности бытия. Подлинной материей «родословной» вещей была затаенная, но всепоглощающая «музыка Небес». О ней свидетельствует уже главный принцип китайского изобразительного искусства — игра «созвучия энергий», которая не просто развертывается во времени, но, являя собой протекающую вечность, сама определяет восприятие времени. Живописный свиток с его вводными сценами, основной темой, вариациями и финалом обладал очевидным структурным сходством с музыкальным произведением. Однако картины и каллиграфия, как явления стиля, были музыкальны и по способу своего бытования: стиль в живописи и письме существует, подобно музыкальному произведению, лишь в индивидуальном исполнении. «Одна черта» в живописи была аналогом «одного тона» в музыке и «одного дыхания» в пении, о которых говорили китайские музыкальные теоретики.