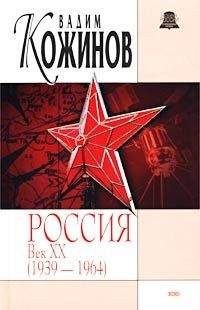Разгон в очередной раз ухитрился "забыть", что, согласно документам, в середине 1920-х годов, то есть в уже "мирное время", в ОГПУ было "для осуществления внесудебной расправы... организовано Особое совещание... в его состав входили В. Р. Менжинский, Г. Г. Ягода и Г. И. Бокий"380. Кроме того. Разгон без всяких оснований "вывел" возглавлявшийся Бокием с 1921-го по 1937 год "Спецотдел" за рамки ОГПУ-НКВД, ибо, согласно документам, во время службы там Разгона это был именно один из отделов (9-й) Главного управления госбезопасности (ГУГБ) НКВД, и сам Бокий имел звание комиссара ГБ 3-го ранга (т.е. генерал-лейтенанта).
Вполне понятно, что Разгон, пытаясь "отделить" Бокия от НКВД, думал прежде всего о собственной репутации. Но одновременно с выходом второго издания его мемуаров вышла в свет основанная на тщательном исследовании фактов книга Т. А. Соболевой, в которой установлено, что возглавлявшийся Бокием Спецотдел "являлся частью репрессивного аппарата" и с течением времени становился "все больше вовлекаемым в поток репрессий"381.
Важно отметить, что Т. А. Соболевой вовсе не свойственна какая-либо предубежденность по отношению к Бокию и его сотрудникам; напротив, она высказывает предположение, что "кровавый террор", в который они были "вовлекаемы", "тяжким бременем лег на души и совесть честных партийцев. Многие начинали осознавать ужас трагедии" (там же). Факты, однако, убеждают, что "осознание" начиналось лишь тогда, когда террор доходил непосредственно до самих этих "честных партийцев"...
Между прочим, Разгон, пытаясь "отделить" Бокия (и, конечно, самого себя) от репрессивной машины, вместе с тем не смог преодолеть стремления показать особую значительность своего тестя382 и написал, что Бокий и возглавляемый им Спецотдел "были, пожалуй, самыми закрытыми во всей сложной и огромной разведывательно-полицейской машине... Бокий из всех возможных и невозможных по своим обязанностям фигур вокруг сосредоточения власти был самым информированным, самым знающим, от него не могли укрыться никакие тайны"383; не исключено, что Разгон намекнул здесь на фамилию своего тестя - Бокий, - которая, согласно авторитетному исследованию филолога Б. Унбегауна, происходит от древнееврейского слова, означающего "сведущий человек", и имела распространение среди евреев Украины384.
Все вышеизложенное нельзя не сопоставить со следующей возмущенной сентенцией из мемуаров Разгона: "...никто из многих тысяч людей, служивших в этих огромных домах на Лубянской площади, никто из них... не выступил устно или письменно со словами и слезами покаяния"...385
Но помилуйте! Ведь сам Разгон служил в этих самых "домах", однако в его пространных письменных излияниях не найти и намека на его собственное "покаяние",.. В гневе он бессознательно проговаривается, что после его ареста (18 апреля 1938 года) его "ночной Москвой везли к знакомому проклятому дому"386; дом был ему действительно "знаком", поскольку до июня 1937 года он сам в нем подвизался...
И здесь мы подходим к главному: сущности самосознания подобных Разгону людей, занимавшихся в 1937 году "пожиранием" друг друга. Вот одно поистине ярчайшее проявление этой сущности. Разгон с крайним, прямо-таки яростным негодованием пишет о том, что приговоры 1937 года нередко включали в себя пункт о "конфискации имущества" репрессированных, которое затем выставлялось на продажу в магазинах "случайных вещей", - вещей, как определяет Разгон, "награбленных энкавэдэшниками" (употребив презрительное прозвание в первом издании своих мемуаров, он, очевидно, полагал, что его собственная принадлежность к этим самым "дэшникам" останется тайной). "Осенью 37-го года я проходил по Сретенке мимо одного такого магазина... вспоминал Разгон. - И, войдя, сразу же в глубине магазина увидел наш (точнее все-таки не "наш", а Москвина, в квартиру которого Разгон вселился как муж его падчерицы. - В.К.) диван... со львами, вырезанными из черного дерева, по краям... рядом с диваном в магазине стояла мебель из кабинета" (москвинского). И, как поясняет тут же Разгон, это была мебель из "какой-то крупночиновной петербургской квартиры, доставшейся (вдумаемся в это слово! - В.К.) секретарю Севзапбюро (в Ленинграде. - В.К.) Москвину, и затем... перевезенная в Москву". И Разгон с предельным гневом заявляет, что расправившиеся с Москвиным "энкавэдэшники", которые конфисковали и выставили на продажу его мебель, "были не только убийцами, но и мародерами"387.
Здесь с разительной ясностью запечатлелось разгоновское "самосознание": ему и подобным ему субъектам даже не может прийти в голову, что, исходя из его собственного "простодушного" рассказа, определение "мародеры" приходится отнести (и с гораздо большими основаниями!) к его собственному семейному кругу, которому "досталась" - вернее сказать, была просто присвоена (а не куплена при распродаже конфискованного имущества) мебель (затем перевезенная в Москву, - в другую "доставшуюся" квартиру), принадлежавшая, вполне вероятно, человеку, убитому во время "красного террора", руководимого председателем Петроградской ЧК Бокием... Тут наиболее прискорбен (и, в сущности, чудовищен) тот факт, что Разгон не усматривает ничего "компрометантного" в этом своем рассказе о "нашем" (москвинском) диване и прочем...
Как уже говорилось. Разгон, после увольнения из НКВД, занял высокий пост в Детиздате, где подружился с его сановным директором, Григорием Цыпиным, побывавшим ранее помощником Кагановича, заместителем Бухарина, директором издательства "Советский писатель" и т.п. По уверению Разгона, Цыпин был "любопытнейшим и приятным человеком", хотя в издаваемых им книгах "не было, может, большого вкуса". Зато у Цыпина "была потрясающая библиотека... У него были собрания сочинений из великокняжеских библиотек, редчайшие книги, когда-то собранные московскими книжниками. Помню полное собрание сочинений Достоевского... на титуле каждого тома надпись... "из книг Федора Шаляпина"..." (опять то же "мародерство", - особенно, если вспомнить о расстрелах великих князей). И арест Цыпина 31 декабря 1937 года Разгон толкует как тяжкую потерю для культуры.
Чтобы яснее представить себе, кто такой Цыпин, обратимся к не так давно опубликованным фрагментам дневника Михаила Пришвина. 12 января 1936 года в ЦК ВЛКСМ началось "совещание о детской литературе" с докладами Цыпина и Маршака. И Пришвин, в частности, записал: "После речи Цыпина, столь невежественного человека, почувствовал такое унижение себя, как писателя, литературы, что не только не решил выступать, а даже и вовсе быть дальше с ними..."388
Едва ли не самый характерный мотив мемуаров Разгона - так или иначе выразившееся в них "убеждение", что до 1937 года все обстояло, в общем, благополучно. Разгон вспоминает, в частности, что даже и сам 1937 год он "встречал в Кремле у Осинских... встреча... была такой веселой... мы пели все старые любимые песни... тюремные песни из далекого (дореволюционного. В.К.) прошлого. Которое не может повториться..."389 (кстати, к этому времени уже были расстреляны Зиновьев и Каменев, - но ведь тот же Москвин беспощадно боролся с ними еще десятью годами ранее, в 1926 году).
Следует отметить, что в 1994 году, готовя дополненное издание своих мемуаров. Разгон не смог игнорировать то, о чем уже громко к тому времени сказали многие другие авторы, и "осудил" террор периода Гражданской войны и коллективизации. По вместе с тем он не вычеркнул из книги свое искреннее признание в том, что ему, сотруднику НКВД, и его окружению было весело в начале 1937-го, - и за эту откровенность его можно бы даже и похвалить...
Но особую выразительность имеет другая откровенная глава из книги Разгона - "Корабельников". Речь здесь идет о человеке, который "в служебной энкавэдэвской иерархии занимал весьма ничтожное место. Он был рядовой оперодчик", ему давали задания проводить "слежку, охрану начальства, аресты". Разгон познакомился с Корабельниковым уже после своего ареста, в лагере, где тот оказался потому, что "по пьяному делу трепанулся... про одно бабское дело у начальника", который, так сказать, отомстил ему пятилетним сроком заключения. Примечательно, что сам Корабельников отнюдь не грешил по "бабской" линии; он рассказывает Разгону, что во время ареста чьего-либо мужа или отца "бабы, такие из себя красивые да гордые, готовы тебе сапоги лизать, могу любую из них тут же... Конечно ни-ни... я на это никогда не шел, начальство всегда во мне было уверено... Мне достаточно знать, что могу"(с. 180-181).
Разгон подробно изображает, как выбившийся из низов Корабельников наслаждается этим ощущением потенциальной власти над людьми, стоящими выше его в советской иерархии. Притом дело идет именно и только об ощущении, так, Корабельников прямо заявляет, что, например, казнить людей - "не по моему характеру". Кроме того, выясняется, что руководителей НКВД (в отличие от остальных людей) он воспринимает как "богов", которым, с его точки зрения, все дозволено. Собственно, и общение-то Разгона с Корабельниковым начинается с того, что последний с подобострастием говорит об уже расстрелянном к тому времени Бокии: