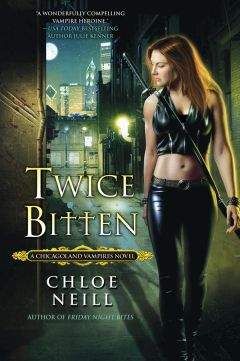Простите мне, если я пишу слишком резко и чем-нибудь обижу Вас; но ведь лучше все покончить разом, не обманывать и не притворяться. Что Вы не будете слишком жалеть о прекращении нашей "дружбы" что ли, я уверена; у Вас всегда найдется утешением в ссылке на судьбу, и в поэзии, и в науке... А у меня на душе еще невольная грусть, как после разочарования, но надеюсь и я сумею все поскорей забыть, так забыть, чтобы не осталось ни обиды, ни сожаления..."
Прекрасная дама взбунтовалась! Ну, дорогой читатель, если вы ее осуждаете, я скажу вам наверно: вам не двадцать, вы все испытали в жизни и даже уже истрепаны ею, или никогда не чувствовали, как запевает торжественный гимн природе ваша расцветающая молодость, А какой я была в то время, я вам уже рассказала.
Но письмо передано не было, никакого объяснения тоже не было, nach wie vor, так что "знакомство" благополучно продолжалось в его "официальной" части и Блок бывал у нас по-прежнему.
Впоследствии Блок мне отдал три наброска письма, которое и он хотел мне передать после разрыва и так же не решился это сделать, оттягивая объяснение, необходимость которого чувствовалась и им.
Жизнь продолжалась в тех же рамках, я усиленно училась у Читау, которая была не только очень довольна мной, но уже строила планы о том, как подготовить меня к дебюту в Александрийский театр на свое прежнее амплуа молодых бытовых. Уже этой весной Мария Михайловна показала меня некоторым своим бывшим товарищам (был М. И. Писарев, это помню) в отрывках из гоголевской "Женитьбы". Блок на спектакле не был, я послала ему билет с запиской:
"Первой идет на спектакле "Женитьба", в которой я играю; если хотите меня видеть, то приходите вовремя, п.ч. "во время действия покорнейше просят не входить в зал". Л.Менделеева. 21-го (марта).
В "Женитьбе" я и впоследствии играла с большим успехом, но - вот тут, вероятно, одна из моих основных жизненных ошибок - амплуа бытовых меня не удовлетворяло. Да, я с удовольствием вкладывала в него и свою насмешливость, и наблюдательность, и любовь к живописной жизненной мелочи. Но - это не вся я. Больше и нужнее мне: крупные планы, декоративность, живописная позировка, эффект костюмный и эффект большой декламации - словом, план героический. В этом плане меня никто не хотел признать. Во-первых, я была выше и крупнее, чем принято для героини; во-вторых, у меня не было больших, выразительных глаз, которые - неотъемлемая принадлежность героической выразительности. Я думала искупить эти недостатки голосовыми преимуществами - голос был большой и очень выработанная, разнообразная читка. А также уменьем носить костюм, чувством позы и изобразительностью движения. И действительно, когда мне удавалось дорваться до героини - выходило хорошо и очень меня расхваливали. Клитемнестра у Мейерхольда, М-ме Шевалье в "Изумрудном паучке" Ауслендера в Оренбурге, Жанна в "Виновны-невиновны" у Мейерхольда же, Ириада в "Грех попутал" Ш...нинского, где-то в халтуре. Но это амплуа редко встречалось в репертуаре, а для более житейских героинь, например, Кручининой в "Без вины виноватые" у меня не хватало теплоты, бытового драматизма.
Если бы я послушалась Марию Михайловну и пошла указанным ею путем, меня ждал бы верный успех на пути молодых бытовых, тут все меня единогласно всегда и очень признавали. Но этот путь меня не прельщал, и осенью я к Читау не вернулась, была без увлекающего дела и жизнь распорядилась мной по своему.
Лето в Боблове я провела отчужденно от Блока, хотя он и бывал у нас. Я играла в спектакле в большом соседнем селе Рогачево (Наташа в "Трудовом хлебе" Островского), Блок ездил меня смотреть. Потом надолго уезжала к кузинам Менделеевым в их новое именье Рыньково около Можайска. Там я надеялась встретить их двоюродного брата, актера, очень красивого и сильно интересовавшего меня по рассказам. Но судьба и тут или берегла меня, или издевалась надо мной; вместо него приехала его сестра с женихом. Со зла я флиртовала с товарищами Миши Менделеева, мальчиками-реалистами, как и в Боблове с двоюродными братьями Смирновыми, тоже гимназистами, которые все поочередно влюблялись в меня и в мою сестру. Но что это за флирты? Да, читатель, когда вы читаете у Блока о "невинности" царевны и тому подобном, вы смело можете принимать это за чистую монету!
Я рвалась в сторону, рвалась из прошлого; Блок был неизменно тут, и все его поведение показывало, что он ничего не считает ни потерянным, ни изменившимся. Он по-прежнему бывал у нас: вот следы выполненного поручения... (письмо Блока IX . 1902).
Но объяснения все же не было и не было. Это меня злило, я досадовала пусть мне будет хоть интересно, если уж теперь и не затрагивает глубоко. От всякого чувства к Блоку я была в ту осень свободна.
Подходило 7-е ноября, день нашего курсового вечера в Дворянском собрании. И вдруг мне стало ясно - объяснение будет в этот вечер. Не волнение, а любопытство и нетерпение меня одолевали.
Дальше все было очень странно: если не допускать какого-то предопределения и моей абсолютной несвободы в поступках. Я действовала совершенно точно и знала, что и как будет.
Я была на вечере с моими курсовыми подругами Шурой Никитиной и Верой Макоцковой. На мне было мое парижское суконное голубое платье. Мы сидели на хорах в последних рядах, на уже сбитых в беспорядке стульях, недалеко от винтовой лестницы, ведущей вниз влево от входа, если стоять лицом к эстраде. Я повернулась к этой лестнице, смотрела неотступно и знала - сейчас покажется на ней Блок.
Блок подымался, ища меня глазами, и прямо подошел к нашей группе. Потом он говорил, что, придя в Дворянское собрание, сразу же направился сюда, хотя прежде на хорах я и мои подруги никогда не бывали. Дальше я уже не сопротивлялась судьбе: по лицу Блока я видела, что сегодня все решится, и затуманило меня какое-то странное чувство - что меня уже больше не спрашивают ни о чем, пойдет все само, вне моей воли, помимо моей воли. Вечер проводили, как всегда, только фразы, которыми мы обменивались с Блоком, были какие-то в полтона, не то как несущественное, не то как у уже договорившихся людей. Так часа в два он спросил, не устала ли я и не хочу ли идти домой. Я сейчас же согласилась. Когда я надевала свою красную ротонду, меня била лихорадка, как перед всяким надвигающимся событием. Блок был взволнован не менее меня.
Мы вышли молча, и молча, не сговариваясь, пошли вправо - по Итальянской, к Моховой, к Литейной - к нашим местам. Была очень морозная, снежная ночь. Взвивались снежные вихри. Снег лежал сугробами, глубокий и чистый. Блок начал говорить. Как начал, не помню, но когда мы подходили к Фонтанке, к Семеновскому мосту, он говорил, что любит, что его судьба в моем ответе. Помню, я отвечала, что теперь уже поздно об этом говорить, что я уже не люблю, что долго ждала его слов и что если и прощу его молчание, вряд ли это чему-нибудь поможет. Блок продолжал говорить как-то мимо моего ответа, и я его слушала. Я отдавалась привычному вниманию, привычной вере в его слова. Он говорил, что для него вопрос жизни в том, как я приму его слова и еще долго, долго. Это не запомнилось, но письма, дневники того времени говорят тем же языком. Помню, что я в душе не оттаивала, но действовала как-то помимо воли этой минуты, каким-то нашим прошлым, несколько автоматически. В каких словах я приняла его любовь, что сказала не помню, но только Блок вынул из кармана сложенный листок, отдал мне, говоря, что если бы не мой ответ, утром его уже не было бы в живых. Этот листок я скомкала, и он хранится весь пожелтевший со следами снега.
"Мой адрес: Петербургская сторона, казармы Л. Гв. Гренадерского полка, кв. Полковника Кублицкого No 13. 7 ноября 1902 года. Город Петербург. В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне "отвлеченны" и ничего общего с "человеческими" отношениями не имеют. Верую в едину святую соборную и апостольскую церковь. Чаю воскресения мертвых. И жизни будущего века. Аминь. Поэт Александр Блок".
Потом он отвозил меня домой на санях. Блок склонялся ко мне и что-то спрашивал. Литературно, зная, что так вычитала где-то в романе, я повернулась к нему и приблизила губы к его губам. Тут было пустое мое любопытство, но морозные поцелуи, ничему не научив, сковали наши жизни.
Думаете, началось счастье - началась сумбурная путаница. Слои подлинных чувств, подлинного упоения молодостью для меня, и слои недоговоренностей и его, и моих, чужие вмешательства - словом плацдарм, насквозь минированный подземными ходами, таящими в себе грядущие катастрофы.
Мы условились встретиться 9-го в Казанском соборе, но я обещала написать непременно 8-го. Проснувшись на другое утро, я еще не вполне владела собой, еще не поддалась надвигающемуся "пожару чувств", и первое мое смешливое побуждение было пойти рассказать Шуре Никитиной о том, что было вчера. Она иногда работала за отца корректором в газете "Петербургский Листок", я подождала ее выхода, провожала домой со смехом и рассказывала: "Знаешь, чем кончился вечер? Я поцеловалась с Блоком!.."