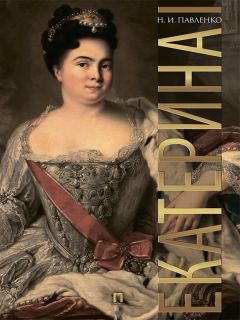Изящный ловелас, постоянно мелькавший перед глазами императрицы, не мог не привлечь ее внимания и благосклонности. Однако прямыми свидетельствами того, что это внимание переросло в интимную связь, историки не располагают. В их распоряжении находятся несколько томов следственного дела, содержащего письма Монса к возлюбленным, обращенные к нему челобитные и т. д. В одной из папок должен был находиться анонимный донос, давший основание следствию вынести обвиняемому смертный приговор, но он был из папки кем-то изъят. И все же имеются хотя и косвенные, но достаточно убедительные доказательства наличия близких отношений между императрицей и ее камер-юнкером, пожалованным во время коронации в камергеры: то, что творил Монс перед носом у своей повелительницы, могло происходить только при условии, что поступки благословлялись покровительницей. Сама по себе императрица не могла удовлетворить просьбы челобитчиков и неизменно ходатайствовала о них либо перед супругом, либо перед высокопоставленными вельможами. Поражает перечень корреспондентов, обращавшихся к Виллиму Ивановичу с разнообразными проектами. Среди вельмож, пользовавшихся услугами Монса, встречаются имена первых в государстве лиц — А. Д. Меншикова, А. П. Волынского, князя Юрия Гагарина, канцлера Г. И. Головкина, Алексея и Василия Долгоруких и многих других. Донимали Монса просьбами и иноземные купцы, помещики, богатые горожане. Суть их просьб состояла в «предстательстве», то есть ходатайстве перед Екатериной Алексеевной о получении чинов, наследства, благожелательном для просителя решении суда, повышении в должности и пр. Уже сам факт обращения такой отличавшейся высокомерием персоны, как Меншиков, или спесивых представителей рода Долгоруких свидетельствует о силе влияния Монса и его способности удовлетворить их просьбу.
Помощь, оказываемая камер-юнкером, была не бескорыстной — Монс получал вознаграждения как натурой, так и деньгами. Его одаривали щедрыми подношениями: породистыми лошадьми и сбруей к ним, каретами, охотничьими собаками, дорогими мехами и сукнами, крепостными крестьянами. А. П. Волынский в 1724 году ходатайствовал о своем переводе из Астрахани в Москву и подкрепил свою просьбу подношением «изрядного мальчика», а также «от простоты своего усердия» астраханской дичи — дроф, фазанов и даже поросят. Дипломат Лев Измайлов перед отъездом в Китай обратился к Виллиму Ивановичу с просьбой о решении в его пользу судьбы спорных вотчин. Усердие Виллима Ивановича подстегивалось богатейшим по тому времени подарком — тысячью рублями. Князь Андрей Черкасский за ходатайство об освобождении от службы пожаловал Монса натурой — породистым иноходцем, материей на кафтан и т. п. Посол в Берлине Михаил Головкин через своего отца канцлера Г. И. Головкина подарил Монсу иноходца. Купчиха Герман щедро вознаградила его за предоставление ей жалованной грамоты на свободную покупку пеньки в Вологде и других городах и отпуске ее за границу через Архангельск. Другая иноземка-купчиха просила Виллима Ивановича «воспринять за благо» два куска кружев и 500 червонных. Помещик Орлов «по старой дружбе» подарил двух собак и охотника во временное пользование. Светлейший князь Меншиков, отличавшийся скупостью, все же летом 1724 года преподнес лошадь с убором, а Александр Нарышкин — две кобылы «на завод».
Подношения превратили скромного выходца из Немецкой слободы в богатейшего человека: он владел многочисленными вотчинами, построил в столице дворец, обставил его богатой мебелью.
Из 250 писем-прошений к Монсу здесь упомянута лишь небольшая толика. Но и этого довольно, чтобы сделать два вывода: во-первых, Монс далеко переходил границы своих полномочий и брался «предстательствовать» по делам, не имеющим никакого отношения к его камер-юнкерским и камергерским обязанностям; во-вторых, им овладело чувство безнаказанности, уверенности в том, что все сойдет ему с рук, что его всегда защитит покровительница. Это чувство ярче всего иллюстрирует колоссальное подношение от самой царевны Прасковьи Ивановны, отличавшейся сварливым нравом и жестокостью, — от нее он не убоялся получить вотчину, населенную 1500 мужскими душами.
Вымогал взятки не только Виллим Иванович, но и его сестра Матрена Ивановна, вдова генерала Балка. Сама Матрена Балк, любимица императрицы, далеко не всегда могла удовлетворить просьбы обращавшихся к ней лиц, но она действовала через брата. В числе клиентов Матрены Ивановны значились лица из самой разной социальной среды: купцы, князья и княжны, дипломаты и губернаторы. Матрена Ивановна, как и ее братец, оказывала услуги за вознаграждение, правда, менее значительное, чем Виллим Иванович. Упоминавшийся выше посол в Китае Лев Измайлов подарил Матрене три косяка камки (дешевая китайская ткань) и 10 фунтов чая, канцлер Головкин — 20 возов сена, герцог Голштинский — два флеровых платка, шитых золотом, и в придачу — ленту, князь Меншиков — небольшой перстень алмазный и 50 четвертей муки.
В пользу гипотезы об интимных отношениях между Екатериной и Монсом свидетельствует и поведение Петра во время следствия.
Современников удивил арест Монса. Камер-юнкер Берхгольц записал в дневнике: «Сегодня нам сообщили по секрету странное известие, именно, что вчера вечером камергер [Монс] по возвращении своем домой был взят генералом и майором гвардии Ушаковым и посажен под арест в доме последнего… Это арестование камергера Монса тем более поразило всех своей неожиданностью, что он еще накануне вечером ужинал при дворе и долго имел честь разговаривать с императором, не подозревая и тени никакой немилости. В чем он обвиняется, покажет время, между тем сестра его генеральша Балк, говорят, с горя легла в постель»[20].
Момент ареста Монса запечатлен и в депеше саксонского посла Лефорта: «Некоторое время спустя после ужина царь велел Монсу посмотреть на часы.
— Десятый час, — сказал камергер.
— Ну, время разойтись, — заявил царь и отправился в свою комнату. Неожиданно в покои, где готовился камергер ко сну, зашел А. И. Ушаков и объявил о его аресте, взял у него шпагу, ключи, опечатал все бумаги и отвез арестанта к себе на квартиру, где его ждал император.
— А, и ты тут, — заявил Петр, но не стал его допрашивать. В понедельник, 9 ноября, царю, не скрывавшему гнева, ввели Монса. Во взгляде Петра было столько раздражительности и презрения, что Монс, не выдержав сурового взгляда, упал в обморок».
Вряд ли бы царь вел себя подобным образом, если бы вина Монса состояла только в использовании им служебного положения в корыстных целях. Взятки в те времена, за редким исключением, брали все, в том числе и взяткодатели, приносившие подарки Монсу: Меншиков, Долгорукие, Волынский и др. Это было настолько обыденное явление, что хотя его формально и почитали злом, но относились к нему снисходительно, ибо у каждого судьи рыльце было в пушку.
Кажется несомненным, что царя обуревала жестокая ревность. Сам факт внешне спокойного разговора с Монсом, во время которого царь как бы присматривался к сопернику, пытался отгадать, чем мог привлечь этот пустой человек его «Катеринушку», и то, что затем он оставил арестованного на ночь терзаться в догадках, похоже на поведение царя в ситуации, когда жертву надо было ошеломить неожиданным поступком. Вот как со слов фрейлины описал сцену ревности императора Франц Вильбуа: «Он имел такой ужасный, такой угрожающий вид, был настолько вне себя, что все, увидев его, были охвачены страхом. Он был бледен, как смерть. Блуждающие глаза его сверкали. Его лицо и все тело, казалось, пребывали в конвульсиях… Раз двадцать он вынимал и прятал свой охотничий нож, который носил обычно у пояса, и ударил им несколько раз по стенам и по столу. Лицо его искривлялось… страшными гримасами и судорогами… Эта немая сцена длилась около получаса, и все это время он лишь тяжело дышал, стучал ногами и кулаками, бросал на пол свою шляпу и все, что попадалось под руку. Наконец, уходя, он стукнул дверью с такой силой, что разбил ее».
Другой современник, граф Г. Ф. Бассевич, отметил менее драматичное поведение царя. Императрица будто бы «пыталась смягчить гнев своего супруга. Рассказывают, что неотступные ее просьбы о пощаде, по крайней мере, ее любимицы [М. И. Балк] вывели из терпения императора, который, находясь в это время у окна из венецианского стекла, сказал ей: „Видишь ли ты это стекло, которое прежде было ничтожным материалом, а теперь, облагороженное огнем, стало украшением дворца? Достаточно одного удара моей руки, чтобы обратить его в прежнее ничтожество“. И с этими словами он разбил его. „Но неужели разрушение это, — сказала она ему со вздохом, — есть подвиг, достойный вас, и стал ли от этого дворец ваш красивее?“ Император обнял ее и удалился»[21].
Свидетельство третьего современника, саксонского дипломата Лефорта, во многом схоже со свидетельством графа Бассевича — видимо, оба пользовались одним и тем же источником информации. Но у Лефорта есть подробности, отсутствующие у Бассевича. В депеше от 17 ноября 1724 года саксонский дипломат докладывает о просьбе Екатерины простить Монса, на что царь резко ответил, чтобы она «раз и навсегда… в это не вмешивалась»[22]. Главное же отличие обнаруживается в депешах, отправленных 13 декабря 1724 года и 12 января 1725 года, то есть после трагедии, постигшей Монса и Балк, когда Лефорт получил возможность собрать более точные сведения. В депеше от 13 декабря Лефорт сообщал: «Они [император и императрица] почти что не говорят друг с другом, вместе не обедают, не спят. Счастью их пришел конец». В следующей депеше от 12 января 1725 года: «16 числа [по новому стилю] пополудни царица явилась к царю, пала перед ним на колени и просила прощения в своих проступках. Разговор у них продолжался около трех часов. Они читали различные статьи, ужинали, а затем разошлись». После того как Екатерина признала свою вину, обстановка в семье, по мнению Лефорта, изменилась к лучшему.