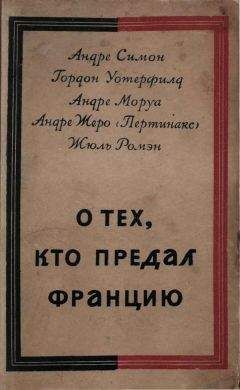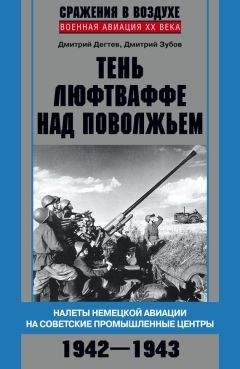Известны лишь отдельные фрагменты этой прискорбной эпопеи. Я изложу их без всяких претензий на полноту картины.
Наиболее благополучно обстояло у нас дело с артиллерией. Орудий старых образцов было более чем достаточно — свыше 4 000 75-миллиметровых орудий (в том числе и усовершенствованные модели дальнобойностью в 11 километров) и более 3 000 тяжелых орудий. Пушечные заводы в спешном порядке изготовляли 105-миллиметровые орудия, которые должны были заменить 75-миллиметровые. Главная проблема заключалась в недостатке снарядов. Исключение составляли только 75-миллиметровые снаряды, которые к марту или апрелю поступали уже в достаточном количестве. Но для 105-миллиметровых, 155миллиметровых и 25-миллиметровых зенитных орудий снарядов нехватало. В артиллерийском ведомстве все время шли ожесточенные споры о наилучшем типе взрывателей. Эти споры так и остались незаконченными.
Мы располагали двумя типами пушек, которые, казалось, не имели равных себе в других странах: 47-миллиметровой противотанковой пушкой и 90-миллиметровой противотанковой и зенитной пушкой, которая пробивала своими снарядами броню толщиной в 90 миллиметров на расстоянии 1800 метров. К несчастью, у нас нечем было заряжать эти пушки. Первая тысяча 90-миллиметровых снарядов была получена только в апреле 1940 года. К концу мая имелось всего лишь 5000 снарядов. Вот почему во время битвы за Францию мы вынуждены были вернуться к приданным пехоте старым 37-миллиметровым пушкам, 25-миллиметровым противотанковым пушкам и традиционным 75-миллиметровкам. Все это были орудия устарелые или не отвечающие своему назначению.
Наступил апрель 1940 года, а французское командование все еще никак не могло решить, сколько ему требуется ежемесячно снарядов — три миллиона, четыре или пять. А кроме того, оставался нерешенным вопрос, какие снаряды более выгодны — стальные или чугунные. Чугунные были дешевле и поэтому могли изготовляться в большем количестве, но зато стальные были эффективнее. Надо, между прочим, отметить, что у нас совсем не было химических снарядов. Если бы Германия пустила это оружие в ход, нам нечем было бы отвечать. Что касается мин, то, вместо того чтобы просто скопировать германскую модель, мы хотели придумать усовершенствованный образец. Начались бесконечные изыскания, которые так ни к чему и не привели.
Когда Франция вступила в войну, у нас было всего 1 700 танков. К 10 мая 1940 года французская армия располагала уже 3 600[11] танками. Большинство танков были двадцати- и тридцатитонные; имелось также немного семидесятитонных машин. Бронетанковые войска состояли из трех дивизий, четвертая только формировалась. Часть танков поступила на вооружение этих дивизий, а часть была распылена среди легких моторизованных дивизий и т. п. Заводы Самюа должны были дать армии 4 000 танков в сентябре, а в дальнейшем еще больше. Это были превосходные машины. Но нехватало грузового автотранспорта — в действии было от 600 до 900 грузовиков, не больше, и это сыграло роковую роль, так как для обслуживания каждого танка требуется три грузовика: один отправляется за горючим, другой возвращается, третий производит заправку. Во время одного из боев в Северной
Франции великолепная бронетанковая дивизия израсходовала весь запас горючего и вынуждена была построиться в каре, наподобие бурского обоза, и отстреливаться, стоя на месте.
В начале войны Франция имела 1300—1400 самолетов, из них, строго говоря, ни одного бомбардировщика. К 10 мая 1940 года число самолетов первой линии оставалось прежним, но удалось создать резерв, так как ежемесячное производство давало около 350 самолетов (в том числе 70 бомбардировщиков) и ежемесячные американские поставки еще 70—80 машин. Это цифры, которые приводил Ги ла Шамбр, министр авиации в кабинете Даладье. Но некоторые эксперты считают их раздутыми. По этим данным нетрудно составить общую картину.
Гамелен и другие руководители армии предвидели, что критический момент наступит весной 1940 года, но не знали, как им повлиять на министра снабжения и объяснить ему, что время не терпит. Впрочем, за ними тоже числилось немало организационных грехов. Взять хотя бы такой факт, как отсутствие достаточного количества хороших карт Норвегии или Бельгии. А что касается мобилизации, то сама она прошла без сучка и задоринки, но оказалось, что нехватает различных предметов снаряжения и обмундирования.
III
Из сказанного не следует делать вывод, что Гамелен, восседавший на вершине французской военной пирамиды, был ограниченным человеком.
Он был, пожалуй, умнее других военных руководителей, соперничавших с ним в прошлом и отчасти продолжавших это соперничество и сейчас. Ему было 68 лет, но он полностью сохранил свои умственные и физические силы. Его доклады Совету национальной обороны были образцом ясности и точности. Леон Блюм, сам типичный кабинетный работник, на которого трудно было в таких делах угодить, был в восторге от этих докладов. Он почувствовал в них нечто от самого себя и, может быть, именно поэтому стал питать к Гамелену своего рода смутное недоверие. Гамелен в большинстве случаев подавлял своей логикой всех, кто обсуждал с ним военные проблемы. Как известно, под его влияние всецело подпал и англо-французский Верховный военный совет.
В чем же заключались его слабые стороны? «Гамелен — не боевой генерал», — говорил лорд Горт английским министрам. Но Гамелен по заслугам приобрел имя «боевого генерала» в 1918 году, когда повел в бой почти полностью окруженную дивизию. Точно так же его нельзя было упрекнуть в недостатке творческого воображения, когда, в качестве офицера оперативного отдела штаба генерала Жоффра, он первым предложил контрнаступление, получившее впоследствии название битвы на Марне. Правда в том, что впоследствии Гамелен постепенно превратился в «академика». Он зарылся в уроки прошлой войны. Его идеи выродились в штампы. Он перестал задумываться над вопросом, не устарели ли они в наши дни. Гамелен считал, что он все предусмотрел, все рассчитал, все организовал и ничего больше делать не надо. Аристотеля заменила схоластика.
Гамелен был скорее ученым, чем администратором. Для любого дела, кроме плана, нужен еще и «хлыст». Никак нельзя было обвинять Гамелена в неповоротливости или склонности я бюрократизму. Но именно при нем французская армия пропиталась духом рутины. На всякую инициативу смотрели косо. В июне 1940 года генерал Вейган рассказал историю об одном дивизионном генерале, который, получив наставление о различных способах уничтожения танков противника, телефонировал в штаб главнокомандующего, справляясь, каким параграфом устава предусмотрен один из рекомендуемых методов, а именно метание бутылок с горящим бензином.
Глава армии не был связан с ней живыми человеческими отношениями. Гамелен — это свет без тепла, абстракция. Как мало похож он на Фоша, вдумчивого и в то же время страстного Фоша! Для Фоша было физически невозможно потерять надежду, капитулировать. Гамелен — человек прямо противоложного типа. Он сидел за столом военачальника, как за шахматной доской. Он был вполне способен в определенный момент заявить: «Все потеряно», и смешать фигуры. Маршал Петэн принадлежит к числу людей такого же сорта. Гамелен постепенно превратился в чиновника, правда, очень высокопоставленного, но все же чиновника, который считал себя застрахованным, если ему удавалось в письме к премьеру сделать определенные оговорки или поставить известные условия. Он не умел страстно добиваться поставленной цели. Обладая сам темпераментом ответственного чиновника, он создал по образу и подобию своему множество других чиновников — высших, средних и низших. Республика 1875 года никогда не забывала уроков переворота 2 декабря 1851 года и жила в вечном страхе перед «генералами-заговорщиками». Она считала, что выкорчевала эту породу после дела Дрейфуса. Это верно, но при этом она перестаралась.
Гамелен понемногу привык считаться с желаниями французских политиков. Он инстинктивно старался придерживаться «золотой середины». Но, несмотря на это и вопреки распространенному мнению, его отношения с Даладье оставляли желать много лучшего. В течение января, февраля и марта 1940 года Гамелен, — поверим ему на слово, — восемь раз подавал в отставку. Он раздражал премьера своим односторонне-критическим складом ума.
«Премьер не понимает меня, — говорил он, — а я не понимаю его». Когда премьером стал Поль Рейно, Гамелен в тот же день поспешил пригласить к себе на завтрак всех, кто, по его мнению, должен был теперь приобрести влияние. Его гости сами смеялись над ним.
В разговоре Гамелен избегал прямо смотреть на собеседника. Когда я бывал у него, он высказывал свои взгляды в самых определенных выражениях и всегда был изысканно любезен. Но однажды, когда Гамелен провожал меня к выходу, я обернулся и, к своему разочарованию, увидел, как он склонился в галантном поклоне и взор его прикован к кончикам его ботинок.