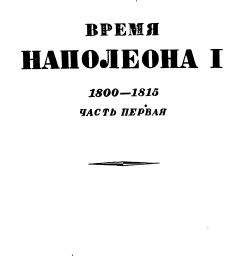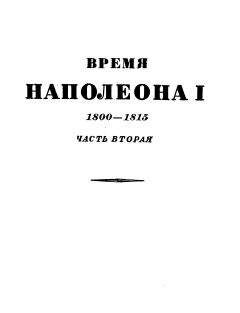Лувр, ставший центральным музеем искусств и освобожденный от чужеродного населения, приютившегося в нем, был по приказу императора «окончен, украшен и расширен». За-ведывание работами было поручено Персье и Фонтену. План императора заключался в том, чтобы не только окончить четыре боковых крыла старого дворца, но и соединить Лувр с Тюильрийским дворцом. Начали с реставрации старого Лувра. Колоннада была — еще раз, меньше чем за полвека — заново перестроена и перебрана камень за камнем; Лемо изваял на фронтоне Историю, вносящую на свои скрижали имя Людовика XIV, а Картелье, над входом, — коней Славы. Двор Лувра был завершен так, что «если бы Леско вернулся на землю и ему, сказали бы:'вот, ваша работа, — он бы возмутился» (Вите).
Живопись. Давид, живописец императора. Когда один из любимых учеников Давида, Этьенн Делеклюз, сообщил ему результат брюмерского переворота, суровый член Конвента удовольствовался словами: «Увы! Я и всегда думал, что мы недостаточно добродетельны, чтобы быть республиканцами… «… causa 'diis placuit… Как конец, Этьенн?» И когда его собеседник договорил цитату: «Так, именно так, мой друг, sed victa Catonih[97] — повторил он несколько раз, выпуская каждый раз облако дыма из трубки, которую в это время курил. И это было единственное его надгробное слово «святой Свободе», когда-то им прославленной.
Бонапарт, потому ли, что искренно восхищался художником, или предчувствуя, что воспользуется его талантом, всегда оказывал Давиду величайшую благосклонность. 18 фрюктидора (4 сентября) он предложил ему убежище в своей армии; тотчас по своем избрании в консулы он привлек художника к себе и после Маренго заказал ему свой портрет. Бонапарт призвал Давида и в присутствии Жюльена расспрашивал о его работах.
«Я начал картину Фермопилы. — Тем хуже. Очень жаль, Давид, что вы тратите свои силы на изображение побежденных».
А после аудиенции Жюльен, провожая художника, представление которого об «исторической живописи» было несколько поколеблено этой беседой, сказал ему с улыбкой: «Вот видите, мой милый, он любит только одни национальные сюжеты, потому что он в них кое-что да значит».
Было решено, что Бонапарт будет изображен спокойным на горячем коне. Однако первый консул категорически отказывался от «позирования». Прежде всего, у него не было времени; а затем, великие люди древности, изображения которых дошли до нас, никогда не позировали! «Не бородавка на носу дает сходство, — сказал он — Александр никогда не позировал Апеллесу. Никто не осведомляется, похожи ли портреты великих людей: их гений — вот что должно быть изображено».
Итак, картина Фермопилы была прервана; едва начатое полотно было надолго убрано в дальний угол мастерской, и Давид начал свою большую картину Переход Бонапарта через Сен-Бернар. Это одно из самых слабых его произведений.
По условию художник мог ежедневно посещать первого консула в час завтрака; напялили на манекен штаны, мундир, шпагу и сапоги, которые генерал носил при Маренго, и с этой-то «модели» был исполнен портрет, настолько же холодный, фальшивый и театральный, насколько набросок, сделанный с натуры в минуту энтузиазма, при возвращении из похода в Египет, был исполнен искренности, непосредствен-ности и жизненного трепета.
Став императором, Наполеон тотчас же назначил Давида своим «первым живописцем», и последний принял «с почтительной благодарностью» это отличие, против которого он некогда так страстно восставал. Даже раньше, чем был отпразднован обряд коронования, император призвал своего первого живописца и заказал ему четыре большие картины, предназначенные для украшения тронного зала: Коронование, Раздача знамен на Марсовом поле, Восшествие Наполеона на престол в церкви богоматери, Прибытия Наполеона в парижскую ратушу.
Две последние картины никогда не были исполнены. Раздача знамен, несмотря на некоторые удачные места, все же. несколько безжизненна. Давид внес в нее полет аллегорических Побед, затем по приказанию уничтоженных, но все же оставивших свой след на общей композиции картины. Коронование — вещь первоклассная. Давид работал над нею четыре года. Не без некоторого недоверия принялся он за нее. Эта большая картина из современной истории смущала художника. Разве это не значило спуститься до «анекдотического рода живописи», за предпочтение которого высокому стилю исторической живописи он упрекал своего ученика Гро? Но приказ властелина был определенный. Давид принялся за дело. И благо ему было! По мере того как художник подвигался в своей работе, он все больше ею увлекался и, по свидетельству Бутара, которому он поверял свои мысли, Давид признавался, что нашел в длинных одеждах священнослужителей, в группировке прелатов, в нарядах придворных дам и в мундирах генералов «больше ресурсов для искусства», нежели ожидал. Он понял, писал Бутар в напечатанной им в Газете Империи статье «О Короновании, картине г. Давида, первого живописца его величества, члена Института и кавалера ордена Почетного легиона», — он понял, «что для сохранения гармонии в композиции, переполненной таким количеством портретов, ему придется несколько смягчить строгий стиль, обеспечивший успех его прежним работам и составляющий славу современной школы, которой он первый дал указания и пример». И критик считал долгом оправдывать художника в этом!.. Такова тирания принципов…
Эта чудесная картина достаточно известна. Перед зрителем вся сцена воспроизведена точно, как бы церемониймейстером, который был бы одновременно и художником и историком. Это — эпический протокол. Стоя на одной из ступенек алтаря, одетый в белую атласную тунику и в длинную мантию из пунцового бархата, Цезарь держит корону над головой Жозефины, коленопреклоненной перед ним. Наполеон сам захотел быть представленным в этой позе, властным и торжествующим, впереди папы, который сидит сзади него как бы лишний и бездеятельный и вся роль которого состоит в том, чтобы покорным жестом, точно по приказу, дать свое благословение. Наполеон возложил на себя корону; ему не пристало получать ее из чужих рук; теперь он сам венчает свою супругу. Около папы — портрет удивительный и трагичный — кардинал Капрара: это — лицо итальянского дипломата с большим бесстрастным лбом и наблюдательными глазами; далее — кардинал Браски с руками, сложенными поверх раззолоченной мантии. По сторонам алтаря — Камбасерес, принц Невшательский, Талейран, Мюрат, Коленкур и др.; за императрицей— г-жи де Лафайет и де Ларошфуко. В глубине, выпрямившись на отведенной трибуне, — мать императора, между женой маршала Сульта и Фонтаном; на другой трибуне, в углу, — сам Давид, за рисунком. Он был там; он все видел; он ничего не забыл; он довел до конца эту огромную работу, ни разу не ослабев волей, почти не дрогнув кистью.
Давид сам удивлялся тому, какие эффекты он сумел извлечь из этой современной церемонии, из этой обстановки, правда, величественной и так хорошо приспособленной для возбуждения чувств… Не художник, не живописец, а теоретик испытывал эти удивительные, хотя и наивные, переживания. Надо видеть, какой свободной и сочной кистью он изобразил все, до второстепенных деталей: мрамор и позолоту алтаря, ковры, бархат, канделябры, пестрые ткани; как широко распределил и с какой уверенностью выдержал свет и тени в интересах правильной перспективы и выразительности; надо в особенности изучить одно за другим все лица; там собранные, столь жизненные и индивидуальные; надо оценить, сколько роскоши и сколько затаенного в величественном единстве целого… и всякий согласится, что Давид как исторический живописец никогда не превзошел своей картины Коронование, получившей на конкурсе 1810 года шестую «большую премию первой степени, присуждаемую произведению на тему, делающую честь национальному характеру».
Давид уже получил другую награду при особенно трогательных обстоятельствах, о которых очевидец сохранил нам память. По окончании картины он явился доложить о том императору, который пожелал видеть ее. В назначенный день сопровождаемый Жозефиной, своей военной свитой и министрами, с эскортом из музыкантов и всадников впереди и позади, Наполеон направился на улицу Сен-Жак. После того как весь двор выстроился в мастерской, император более получаса ходил, не снимая шляпы, перед огромным полотном, рассматривая одну за другой все детали, иногда останавливаясь и затем опять возобновляя свою прогулку и свой молчаливый осмотр, между тем как Давид и все присутствующие неподвижно ждали в глубоком волнении. Наконец, государь, еще раз приостановившись, сказал: «Хорошо, Давид; вы вполне постигли мою мысль». В эту минуту императрица приблизилась к императору справа, Давид же слушал, наклонившись, слева. Наполеон, сделав два шага по направлению к художнику, приподнял шляпу и, слегка наклонив голову, громко сказал (комедиант!)[98]: «Давид, приветствую вас!»