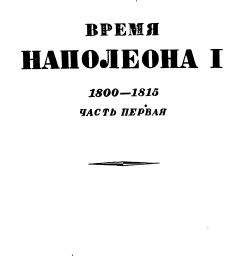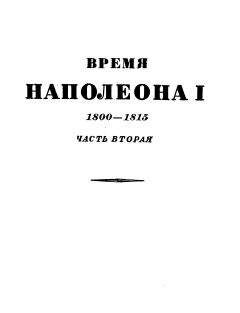И все же, если присмотреться, можно уловить в самых недрах торжествующей ортодоксии, в ее святая святых, еще задолго до часа решительных восстаний, признаки освобождения или попытки вырваться на свободу, движения и стремления, предвещающие перемену во вкусе и позволяющие до некоторой степени уловить самый ход эволюции. В мастерской Давида — с первых годов XIX столетия и даже в последние годы XVIII — вспыхнул своего рода мятеж, поднятый небольшой группой художников, о которых хотелось бы иметь сколько-нибудь более точные сведения; особенно же важно было бы увидеть что-нибудь из их произведении. Их называли примитивами, бородачами, мыслителями… Несколько восторженных страниц у Нодье, одпа мягко ироническая глава у Делеклюза, несколько статей или параграфов о «мыслящей секте», полных уничтожающего презрения, у Бутара — вот и все, что дошло до нас от них или, скорее, о них, и ни одного произведения, ни одного эскиза.
Чего стоил и чего действительно хотел этот Морис Гюэ, которого воспел Нодье? «Под образом, совмещающим черты Антиноя и Геркулеса, он скрывал душу Моисея, Гомера и Пифагора; он сочетал мужество сильного с простодушием ребенка и ум мудреца с восторженностью священнослужителя… Ни разу не поднял я глаз на него без чувства священного ужаса, ни разу, когда он призывал меня к себе, не слушал я невыразимо мелодичных звуков его голоса без мысли, что бог, сделавшийся человеком, тоже любил окружать себя несчастными сего мира…» Этот тон говорит сам за себя. А рядом с Морисом Гюэ — Люсиль Франк, самое имя которой «очищало уста». «Пробуждалось ли в вас участие к горестной судьбе грустящей Мальвины, извлекающей из арфы скорбные мелодии и обращающей печальный взгляд, полный слез, на слепого барда, который уже не может им любоваться?.. Тогда вы поймете Люсиль».
Делеклюз, вообще не расположенный к лиризму и по натуре мало склонный к мистике, внес гораздо меньше пафоса в их биографии. Он просто рассказывает, что во времена Консульства группа учеников Давида осмелилась «легко, а затем и серьезнее» критиковать произведения учителя, даже Сабинянок. Эти художники признавали в картине «некоторую готовность следовать по стопам греков», но не усматривали никакой простоты, никакого величия, словом — ничего примитивного, — таково было излюбленное их выражение. Эти прерафаэлиты, обогнавшие прерафаэлитизм, дали Давиду клички: Ванлоо, Помпадур, Рококо. Главой мятежников был Морис Гюэ, прозванный Агамемноном. Он прогуливался по улицам в длинной тунике, доходящей до щиколотки, и в большом плаще, который он умел носить с царственной грацией и непринужденностью. В этом человеке было что-то напоминавшее «Магомета и Христа» (это говорит спокойный Делеклюз); большого роста, с густой черной бородой и густыми волосами, с пламенным взором и выражением страсти и доброжелательности на лице, он привлекал и импонировал. Его суждения в области литературы, как и в области искусства, далеко опережали его век; все греческое искусство после
Перикла и итальянское после Рафаэля было в его глазах продуктом порчи и упадка; он находил истинные, основательные и неотъемлемые достоинства только в библии, в поэмах Гомера и (вспомните время!) в Оссиане. Он восхищался Софоклом; но Эврипид казался ему Ваплоо. Он говорил с оттенком презрения: «Это в духе Вольтера…» Вот уж, действительно, — человек, необыкновенно хорошо подготовленный для чтения «Духа христианства» и той литературы, которой вскоре положит начало Шатобриан. Любопытно уловить это первое пробуждение и предрассветный трепет романтизма в разгар классической реакции.
Романтизмом был заражен сам Жироде (Анна-Луи Жироде де Ранси Триозон, 1767–1824). Весьма одаренный литературно, временами сам поэт, правда посредственный, он был из. тех, на кого поэзия Оссиана произвела глубокое впечатление, и, к великому огорчению своего учителя, рано впал в сентиментальную манерность, в своего рода академический романтизм, «опасность» которого обнаружили его Погребение Аталы (1808) и Оссиан. Делеклюз, плодовитый и драгоценный историограф, рассказал, как однажды, когда он зашел за Давидом для ежедневной прогулки, последний сказал ему: «Жироде дал мне знать, что его Оссиаи кончен; он просил меня притти посмотреть; хотите — пойдем к нему вместе?» Взобрались не без труда — мастерская Жироде находилась тогда под крышей Лувра — и после пяти или шести ударов дверь, наконец, открылась. «О, Жироде — человек осторожный, — сказал Давид. — Он, как львица, скрывается, чтобы рожать своих детей». Став перед картиной, Давид, «не садясь и не снимая шляпы», долго и молча смотрит с величайшим вниманием. Жироде, обеспокоенный, а затем почти рассерженный, решается вырвать у него отзыв, и учитель восклицает, «как бы подводя итог своим мыслям»: «Ей богу, друг мой, надо сознаться — я не знаток такой живописи: нет, милейший мой Жироде, я совсем, совсем не знаток»[102]. Он круто оборвал свой визит и еще на дворе Лувра все продолжал, размахивая руками: «Ну, и Жироде! Ведь это безумец! Ведь он сумасшедший!.. Какая жалость! Чудесный талант, а ничего не сделает, кроме глупостей… У него нет здравого смысла!»
Эта картина, Оссиан, была предназначена для Мальмезона, украшение которого было поручено Жироде и Жерару.
Вопреки энтузиазму некоторых учеников художника, картина, в общем, мало понравилась 9 Салоне X года, и критик Журиаль де Деба, хотя и был одним из ближайших друзей художника, объяснив и защитив от нападок его произведение, кончил свой отзыв такими словами: «Несомненно, что нашим художникам, если они не хотят заблудиться, необходимо отправить Морвенского барда назад в туман, из которого он едва показался, и возможно ближе следовать за певцом Ахиллеса и певцом Лавинии».
В том же Салоне Жерар добился своим Велизарием, а также Психеей, первого большого успеха, который скоро превратил его первоначальное дружеское соревнование с Жироде в соперничество, а затем и во вражду.
Франсуа Жерар (1770–1837) в исторической живописи был только соперником Жироде. Психея, получающая первый поцелуй Амура (1797), выставленная на три года позднее его Вели-зария, несущего своего молодого проводника, — картины, не превзойденной им в этом роде живописи, — так же холодна, как и манерна по стилю. И, конечно, в защиту памяти Жерара нельзя приводить его банальные аллегории Сражение при Аустерлице (плафон для залы Государственного совета — 1810), или Въезд в Париж Генриха IV, Коринну на Мизен-ском мысе, Людовика XIV, провозглашающего своего внука королем испанским, Коронование Карла X, или, наконец, Дафниса и Хлою — картины, вялость которых доводит зрителя, можно сказать, до раздражения. Для него, как и для стольких других, спасением был портрет. В этой области он был, бесспорно, превосходен до такой степени, что вызывал зависть или по меньшей мере дурное настроение у Давида.
Начало карьеры Жерара было трудное; сирота, без средств, он попал в рекрутский набор и освободился только благодаря Давиду, но дорогой ценой — включением в списки присяжных революционного трибунала. Желая освободиться от этой ответственной обязанности и не навлечь на себя подозрений в отсутствии гражданских чувств, он притворился тяжело больным и совершенно бросил работу. Настала нищета. Его поддержал сострадательный художник Изабэ, тот самый, который оставил такие прекрасные миниатюры и несколько превосходных рисунков. Изабэ купил у него Велизария и заставил его взять даже прибыль, полученную от перепродажи этой картины; в знак благодарности за такую щедрую и тактичную помощь Жерар написал в 1795 году портрет во весь рост своего благодетеля с дочкой. Это — прелестная картина. Портрет m-lle Вроньяр также прост и правдив, и почти близок к совершенству портрет г-жи Реньо де Сен-Жан д'Анжели (1798), с полуоткрытыми губами, влажным и кротким взглядом и обаятельной грацией, портрет, дышащий робкой обольстительностью и как бы невинным кокетством.
С этой минуты Жерар становится модным портретистом. Великосветское общество, возвращающееся к привычному образу жизни после стихнувшей бури и снова открывающее свои салоны, с этих пор заваливает его заказами. С удивительной находчивостью и тактом он понимает и удовлетворяет затаенное желание нравиться своих прекрасных заказчиц. Его называют «королем живописцев», а вскоре и «живописцем королей». К нему-то обратилась однажды г-жа Рекамье, недовольная портретом, который начал писать с нее Давид. Известно, как Жерар изобразил ее. Едва прикрытая длинной белой туникой и ниспадающим шарфом, с обнаженной грудью и руками, с босыми ногами, божественная Жюльетта только что привела или, скорее, бросилась на кресло с лиловатой подушкой в одной из тех галлерей с колоннадой, «которые никуда не ведут» — неопределенная декорация классической трагедии, — сама похожая на какую-то принцессу из трагедии. Легкая меланхолическая улыбка грустно примиренного кокетства, прелестная в своей усталости, блуждает на ее губах… Пришлось ли ей отвергнуть настойчивое признание обожателя, менее терпеливого, чем безобидный Бал-ланш, менее «умиротворенного», чем Монморанси? Пробудились ли на мгновение те страсти, которые разжигает ее красота, успокаивает ее доброе сердце, а ее любвеобилие излечивает и нежно превращает в дружбу? Или она сердилась? Кажется, будто за ее радушной улыбкой кроется упрек, а в ее доверчивом и ласкающем взоре таится тень уныния.