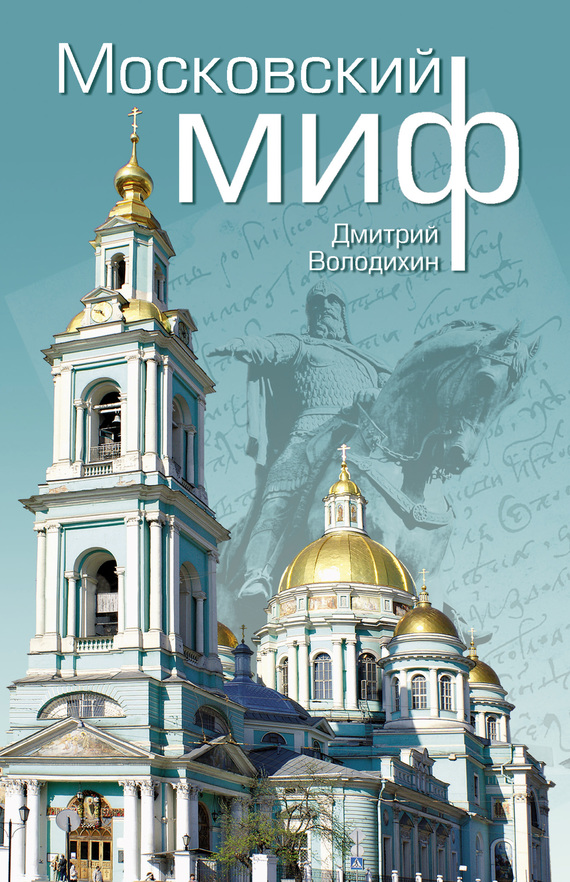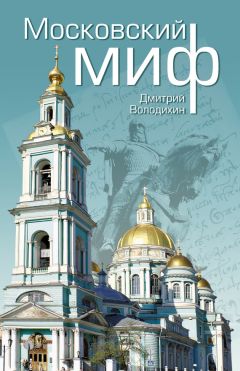Редкий марафонец на маршруте петербургской темной мистики еще не оставил свой угрюмый забег, еще не сошел с дистанции. Демонизм и прочая хоррор-атрибутика чем дальше, тем больше превращается в предмет индустрии развлечений. Желающие могут купить билетик на экскурсию по самым «призрачным местам» Петербурга, детям дается скидка! Осторожнее, не подходите близко к месту сему, на нем лежит таинственное и опасное проклятие, и если кто не разглядел, вон оно, обозначено зеленой краской посередине…
Что ж, с таким багажом не жаль расставаться. От города отлетает всё это мрачное «волшебство» и, может быть, пустующая ниша наполнится иным, не столь унылым содержанием.
Приложение 3. Маленькая родина
Я много раз слышал выражение: «малая родина». Очень уж оно неласковое. Лучше говорить «маленькая родина». Выходит и нежнее, и правдивее. Она, эта самая маленькая родина, встроена в сердцевину личности. Назвать ее – значит объяснить себя.
Что я вспомню, когда буду умирать? Бог весть. Где мои корни? В Евангелии. Кто моя любовь? Иисус и жена Ирина. Звезды над моей душой устоялись. Но какой груз внутри, под палубой ее, в темноте? Где священная земля, на которой выросло то, что я есть? В Москве, наверное.
Впрочем, сказать «в Москве» – ничего не сказать.
Я сделан в СССР. Все верхние этажи моей личности пришлось медленно, но верно перестраивать, меняя знак пятиконечной звезды, всюду проставленный, на знак креста. Но нижние этажи перестроить невозможно. Что есть, то есть. И, пожалуй, не стоит рушить: там ведь неплохой, прочный фундамент, к чему расковыривать его? Мне лишь хотелось бы знать, где его краеугольные камни, что они такое, чему суждено остаться, если некто произведет со мной злой эксперимент и вырежет из моей памяти все до самого основания. Вот задача: увидеть самое основание, назвать его, почувствовать его.
* * *
Я помню много добрых мест. Деревянной домик бабы Пани – моей родни по линии матери – недалеко от железнодорожной станции Баковка в Московской области. Грядки с зеленью и клубникой, дубовая роща, величаво возвышавшаяся над помойками, сельская плотина и речушка-малютка, спеленутая болотцами, косыми дачными заборами, дощатыми мостками, сараюшками, мелкой ржавью, там и сям торчащей из воды… Огромный деревянный барак, сто лет ему в обед, изображал в пору моего детства вокзал, за ним торговали всякой мелочью, например керосином для старых ламп и для кухонной горелки, заменявшей тогда газовую плиту, да еще мармеладом в форме зверюшек.
Перед станцией собралась в кучку вся поселковая культура. Кирпичная двухэтажная аптека: там в летние месяцы всегда бывало прохладно, а в воздухе висел угрожающе-резкий травяной запах, я никогда не чуял его в других аптеках… Нарядный ларек «Союзпечать» работал по неведомому графику, а потом и вовсе опустел, зачах. Неопрятным, бесшабашным «Продтоварам» противостояли через улицу приземистые, но горделивые «Культ товары». Бабульки, затевавшие вечерами покартежничать, наизусть знали, какое пятно на какой девятке и какой угол у какой дамы оторван. Время от времени они намеревались идти в «Культтовары» за очередной колодой, да все откладывали. Голосистые, языкатые, любили они детвору и норовили кого-нибудь из нас ухватить за плечо, потрепать за ухо, пригладить волосы и при этом довольно взгыгыкнуть: ова, мол, бродят! а! бродят, видишь ты… мелочь пузатая! Каждая бабулька – характер. Самая тихая и какая-то кроткая, не от мира сего, была как раз моя баба Паня. Она спокойным своим нравом гасила взбрыки товарок. Трудолюбивый и независимый человек, баба Паня не любила лишнего шума. Другая бабулька, тощая, задиристая коза, вечно совалась в чужие карты, а когда ее подглядывание встречало отпор, заливалась мелким обидным хохотком: «А што я? Да ништо я. Да иди ты. Да отстань ты. Лучче вон ходи давай!» Могла сказануть и что-нибудь въедливое. Зуб у нее был вроде бы золотой, улыбалась она криво, но очень заразительно, и всем своим видом вызывала мысли о шпане, то ли, может быть, о хитрых вороватых цыганах. Третья бабулька – поосанистей, черноволосая, раскосая, из татарвы, смеялась всем телом, тяжкие складки колыхались, голос извлекал из старушечьего нутра бульканья и переливы. Эта отличалась хитростью, выигрывала она, кажется, больше всех, и за это ее любили и уважали меньше всех. Татаровистая обожала пропустить о ком-нибудь сплетенку посолонее, а рассказав, подмигнуть: вона я чего знаю! Наконец, четвертая, немногословная, суровая, старше прочих. Совиное у нее было лицо, тяжкое, расточенное морщинами во всех направлениях. Глядела четвертая бабулька исподлобья, шуточки и сплетенки не уважала, проигрыш и выигрыш принимала равнодушно. Говорила она реже остальных, но раскрыв рот, могла припечатать основательно и резко. Ее чуть побаивались и уважали. Ходила совиноликая с клюкой, медленно, с трудом переставляя тумбы отекших ног. Тогда я не понимал этого, не мог понять, но вспоминая ту пору, теперь скажу с уверенностью: печать близкой смерти давала ей незримую власть над остальными… А впрочем, многолетний их подкидной или, если наскучит, переводной, хлесткие падения карт на серый от времени деревянный столик во дворе, бульканье татарки, хохот козы, суровые взоры совиноликой, негромкий правильный говорок бабы Пани – ничего злого и темного в себе не несли. Жизнь обошлась с бабульками по-разному, но без особой ласки; наверное, прежде, годков с полста назад, могли бы они стать соперницами, а теперь дряхлость урядила их гоноры, посадила их рядом и мудро устроила маленький мирок. «Бабульник» заражал тупичок из четырех-пяти домов тихой веселостью и даже азартом. Он неведомым образом упорядочивал местную жизнь, подвязывая к ней ребятню, заезжих взрослых, соседских алкоголиков, неудачливых погорельцев, хорошую колбасу, каковую продавали на Сетуни, хвори, свадьбы, ремонты, расписание электричек и грядущие праздники…
Вероятно, с тех пор я чувствую тягу к местам тихим, к покою, к деревьям над головой, к маленьким домикам. Я мегаполисный житель и к гигантскому вареву городской суеты привык. Роение толп нимало не стесняет меня. Напротив, на пустынных улочках райцентров я чувствую себя несколько не в своей тарелке… Но Тихое Место давным-давно пленило мою душу, мне кажется, что покой выше, правильнее, что там следовало бы укрыться от неуютной нашей жизни с ее некрасивыми угрозами и ненужными волнениями. Скорее всего, на старости лет я отыщу свою Баковку…
Я вырос в то время, когда большие города расширялись слишком быстро, да и забрали себе слишком много власти. Жизнь наша не тиха. И в этом заключается ее внутренняя болезнь, медленно подтачивающая силы общества. Хаотическое беспокойство мегаполиса запросто превращает человека в нервное, раздраженное, издерганное существо. Большой город всегда недобр. Но я хотя бы знаю, куда бежать, я знаю,