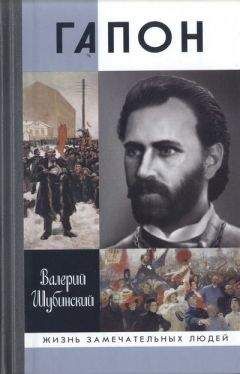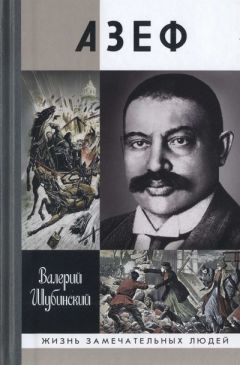Фабричные к началу правления Николая II уже были особенным сословием, с собственной психикой, даже с узнаваемым внешним обликом. Инженер А. Г. Голгофский писал в 1896 году (в докладе Российскому торгово-промышленному обществу):
«Проезжая по любой нашей железной дороге и окидывая взглядом публику на станциях, на многих из них невольно обращает на себя ваше внимание группа людей, выделяющихся из обычной станционной публики и носящих на себе какой-то особый отпечаток. Это, во-первых, люди, одетые на особый лад: брюки по-европейски, рубашка цветная навыпуск, поверх рубашки — жилетка и неизменный пиджак; на голове суконная фуражка; затем это люди большею частью тощие со слабо развитой грудью, с бескровным цветом лица, с нервно бегающими глазами, с беспечно ироническим на все взглядом и манерами людей, которым море по колено и нраву которых не препятствуй. Незнакомые с окрестностями места и не зная его этнографии, вы безошибочно заключите, что где-то около этого места есть фабрика».
Полудеревенские люди, еще помнящие о своих корнях, но уже втянутые в городскую цивилизацию. Рубашка цветная навыпуск — и пиджак, жилетка… Петербург всегда был полон сезонных гостей, ремесленников и торговцев, приезжавших из деревень на зиму — питерщиков, но те приходили, уходили, сменялись, а фабричные оседали в Питере надолго, часто навсегда. У них была уже своя субкультура: частушки (новшество на рубеже веков — доселе не существовавший фольклорный жанр), песенки вроде знаменитой баллады про отравившуюся девушку:
Уж вечер вечереет,
Все с фабрики идут,
А бедную Марусю
На кладбище несут.
Но это была вершина айсберга. Мастеровые раннеиндустриальной поры еще хранили особую ремесленную культуру, культуру отношения к вещи, орудию, материалу, прежде не находившую выражения ни в письменной словесности, ни в фольклоре. В XX веке эта культура вдохновляла одного из величайших русских писателей, Андрея Платонова, выходца из фабрично-заводских людей конца петербургской эпохи.
Уровень и качество жизни рабочего человека в предреволюционной России — привычная тема идеологически окрашенных спекуляций. Обратимся к сухим цифрам.
Прежде всего — сама работа.
Закон 1897 года (за год до того, как Гапон пришел в Покровскую церковь) ограничил рабочий день одиннадцатью с половиной часами (в предпраздничные дни и для женщин — десять часов; несколько больше, чем в Англии и Германии, но в общем в пределах тогдашних европейских стандартов), а рабочий год — 295 с половиной днями. Другими словами, мужчина проводил у станка около 3200 часов в год (в наше время — примерно 1800 часов). Притом рабочий не находился конечно же в цеху 11 или 12 часов непрерывно. Часто он отрабатывал шестичасовую смену (с четырех до десяти утра), потом шесть часов отдыхал, а потом опять шел к своим станкам. Такой порядок распространен был в легкой промышленности. На других заводах одиннадцати-, двенадцатичасовой рабочий день прерывался долгим, часа на два, обеденным перерывом. Вроде бы это делалось для блага, для отдыха самих рабочих, а в результате у людей, занятых тяжелым физическим трудом, не оставалось времени на нормальный ночной сон.
Подростки с двенадцати до пятнадцати лет работали по восемь часов в сутки с четырехчасовым перерывом (труд детей до двенадцати лет был запрещен еще в 1882 году). Закон обязывал фабрикантов учить их ремеслу.
Условия труда почти везде были, на нынешний взгляд, ужасны (спертый воздух, вредные испарения), травматизм огромен. Впрочем, в этом отношении на многих заводах ничего не изменилось по крайней мере до 1960-х годов.
Средняя зарплата рабочего в промышленности составляла примерно 16 рублей в месяц. На эти деньги мастеровой мог купить где-то 3 пуда и 12 фунтов (53 килограмма) свиной шейки, а нынешний (2013 год) российский рабочий на свои среднестатистические 22 тысячи может купить целых 88 килограммов этого продукта. Но не одной свиной шейкой жив человек! В эпоху Гапона не было ни всеобщей бесплатной медицины[8], ни массового бесплатного образования (выше начального уровня — а в больших городах начальные училища были переполнены), ни квартир в личной собственности (хозяин был у дома, а апартаменты снимались — самая дешевая двух-, трехкомнатная квартира в Петербурге стоила 25–30 рублей в месяц; комната в меблирашке —5–7 рублей). Были, правда, бесплатные казармы для рабочих — аналог нынешних «общаг», но не на всех заводах. Многие снимали «углы» — то есть жили по несколько семей в комнате.
Не забудем еще про штрафы за различные трудовые провинности (они, правда, поступали в особый фонд, который шел на общие нужды самих рабочих) и про отчисления в пенсионную кассу. (Но податей платить уже не нужно было: бюджет России с 1887 года наполнялся за счет косвенных налогов, входивших в цену товара.)
В общем, картина довольно суровая. Однако же важны нюансы. Среднестатистические цифры лукавы. Для России характерен был огромный разрыв в оплате и уровне жизни между чернорабочими, недавно приехавшими из деревни (и составлявшими абсолютное большинство рабочего класса), и «рабочей аристократией». Высококвалифицированный слесарь на хорошем заводе получал в среднем от 80 до 100 рублей в месяц — в четыре-пять раз больше, чем земский учитель, столько же, сколько офицер в чине капитана или ротмистра. Он жил вполне по стандартам «нижнего среднего класса», снимал квартиру из нескольких комнат (или имел собственный домик), мог отдать детей в реальное училище, а то и в гимназию. Заработки электриков, наборщиков, железнодорожных машинистов бывали еще выше. Притом ядро «революционного пролетариата» составляли столичные металлисты и машиностроители — рабочие далеко не самые бедные. Впрочем, так всегда бывает.
Рабочие в большинстве своем (среди мужчин — шесть из десяти) были грамотны: контраст с крестьянской средой впечатляющий. При больших заводах обычно были школы, библиотеки. По выходным дням устраивались книжные чтения, давались спектакли. Тяга к знаниям у русских фабричных, в общем, была порой даже жадной. Ходасевич, Белый, Гумилев, преподававшие после революции в студиях Пролеткульта, ценили это качество рабочей молодежи. Но если после революции рабочих развращали и сбивали с толку марксистские идеологи, то в царской России у них просто не хватало времени и сил на самообразование. Одинокий рабочий в среднем тратил на книги, газеты, театр и прочие излишества такого рода около одного процента своих заработков, а семейный еще меньше. Между тем на спиртные напитки уходило пять-семь процентов. Конечно, ничего удивительного. Нравы фабричных слободок изысканностью не отличались, и не только в России.
После возвращения в Петербург, год спустя, Гапон снова был привлечен к миссионерской деятельности в рабочих районах — на сей раз Саблером.
По его предложению Гапон стал осенью 1899 года проводить нравственные беседы в церкви Всех Скорбящих в Галерной гавани — в западной, приморской части Васильевского острова, с давних времен страдавшей от наводнений. Именно там жила и погибла пушкинская Параша. Близ Галерной гавани со времен Елизаветы Петровны находились судоверфи, было много и других промышленных предприятий. Беседы организовывало Общество религиозно-нравственного просвещения, возглавляемое протоиереем Философом Орнатским (видный церковный деятель, впоследствии настоятель Казанского собора; убит в 1918 году во время красного террора, канонизирован как священномученик).
Гапон быстро и ненадолго загорелся — как это часто с ним случалось.
Вот цитаты из писем Г. И.:
«Увлекаюсь беседами. Заметно массовое стечение народа, так что подумываем с Галерной администрацией, во главе с Саблером (был у них 28), воспользоваться религиозно-нравственным подъемом и создать Общество. Так как я не хорошо изучил народонаселение Галерной гавани и вижу пока, что главные пороки здесь — пьянство и беспорядочное проведение праздничных (нерабочих) дней, то предлагаю создать Общество ревнителей разумно-христианского проведения праздничных дней с разделением района на 12 участков» (31 декабря 1899 г.).
«Дело проповеди в церкви „Милующей Божьей Матери, что на Галерной гавани“, процветает. В прошлое воскресенье здесь служил вечерню и слушал мою беседу о. архимандрит Сергий, инспектор духовной академии. В будущее воскресенье будет служить по приглашению Саблера преп. Вениамин…» (7 марта 1900 г.).
Какой там отказ от сана! Священство давало Гапону проявить себя так, как никакая другая деятельность не дала бы. Питерские рабочие слушали его так же увлеченно, как полтавские мещане, или еще увлеченнее. На проповедях-беседах бывало, если харизматический священник не преувеличивает, до двух тысяч человек. Приходили сектанты-пашковцы, особенные русские протестанты; иногда они вступали в теологические споры, из которых Гапон выходил победителем; его спасали не столько абстрактные богословские познания, сколько обаяние и пафос. Академическое начальство вполне одобряло внеучебные занятия студента. Инспектор Сергий, приходивший послушать его беседы, — это не кто иной, как Сергий Страгородский, будущий патриарх… и непримиримый противник обновленца Вениамина. В то время оба они были еще молоды — лишь несколькими годами старше Гапона. И, конечно, не могли представить себе, что в зрелые годы окажутся по разные стороны некой разделительной черты.