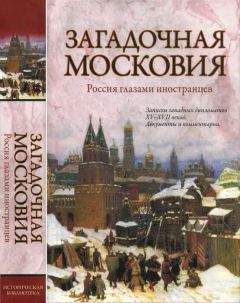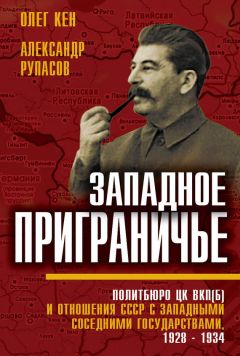Барон не очень хорошо помнил, каким он был в молодые и зрелые годы, когда сам приезжал полномочным послом в Московский Кремль. Может быть, и он, как Витсен, с презрением относился к хозяевам? И тоже мог настолько попирать неписаные законы пребывания в гостях, чтобы называть хозяев «скотами» и «свиньями»? Барон стал подозревать, что до него никто не читал записки о Московии так, как это сделал он: сразу, не отрываясь, перелистал и прочитал множество книг. Наверное, именно поэтому у него и создалось столь неоднозначное впечатление.
Сейчас он не понимал, почему голландцы и персы могут расспрашивать друг друга о странах, откуда приехали собеседники, а кто-то из авторов, чьи труды вперемешку громоздились на столах в оружейной зале, отозвался с уничтожающей насмешкой о русских, которые попросили рассказать приезжих о своей земле. Он не помнил точно, кто это был, возможно, такие слова попадались ему не раз. Во всяком случае, слова Витсена он только что прочел и был удивлен:
«Русские спросили меня, когда начнется морской бой между нами и англичанами, граничит ли наша страна с Англией, воевали ли мы с ними на суше и другие дурацкие вопросы».
Барон не увидел в этих вопросах ничего дурацкого, напротив, Барону стало казаться, что порой иностранные писатели нарочито произносили ложные свидетельства. В те месяцы 1665 года, когда Витсен был в Москве, дело явно шло к новой войне, и не за горами была объявленная Королем-Солнце Людовиком XIV деволюционная война, втянувшая в себя не только Францию и Испанию, но и Швецию, Нидерланды и Англию. Голландия и Англия, вечные враги, менее двух лет спустя вступили во временный союз, но русские этого еще не знали, как и никто не знал. Что до вопроса о границах, то Англия была от русских столь же далека, сколь далека была Московия от Британских островов, и точные границы, сухопутные или морские, не всем были известны.
Барон думал, что не следует отзываться о хозяевах столь грубо, как это делал Витсен и, по его словам, персидские собеседники:
«Я посетил одного из персидских купцов. Он был очень любезен, щедро угостил водкой, пастилой и сахаром. Я курил с ним какой-то белый табак из больших стеклянных сосудов, которые они называют кальян. Мы сидели с ним как портные, поджав ноги. Он много рассказывал о своем шахе, его власти и стране, что он такого высокого роста, что в армии он из всех выделяется; еще сказал, что посланцев царя они угощают на серебряной посуде. Весьма презрительно он отзывался о людях московской страны. Очевидно, он находил удовольствие в нашем обществе, сказав:
— Моя душа возвышается, когда я вижу иноземцев и разумных людей, так устал я от здешних скотов. Когда вы зайдете в следующий раз, то приходите не как гости, а как друзья, как к себе домой.
Перед уходом он хотел нам что-то подарить, но мы отказались. Этот перс был вежлив, разумен и учтив, а по галантности далеко превосходил французских любезников».
* * *
На этих же страницах дневника Витсена Барон нашел несколько записей, идущих одна за другой, день за днем:
«10 февраля.
Сегодня у нас во дворе вспыхнул пожар по халатности нашего повара, сгорел весь верх, но усилиями стрельцов пожар был потушен.
12 февраля.
У нас во дворе снова начался пожар, поднялась большая тревога, так как это произошло ночью. Теперь наши ворота охраняют более строго, чем раньше».
* * *
Барон, погруженный в размышления о том, какими, неожиданно для него самого, предстали ему иностранцы в России, почти не заметил, как снова стал перелистывать «Известия о делах Московитских» Герберштейна. Тот, описывая великокняжеский пир, заметил:
«Царь не может оказать кому-либо большей чести на своем пире, как посылая ему соль со своего стола. Однако, их прекрасные белые хлебы, имеющие вид лошадиного хомута, знаменуют, по моему мнению, для всех, их вкушающих, тяжкое иго и вечное рабство, которым они этот хлеб заслуживают».
Барон, как он не раз говорил сам себе, не любил русских, несмотря на то, что всю свою жизнь в качестве посла он должен был искать союза с ними. Однако он почувствовал себя почти оскорбленным, поскольку любимый им Герберштейн произнес явно ложное свидетельство. Хлеб не может знаменовать никакое рабство. Пышный и мягкий, из хорошей пшеничной муки, калач русские подавали к праздничному богатому обеду. Барону однажды показали, как пекут калачи. Кусок хорошо взошедшего мягкого теста пекарь, которого называли специальным именем «калачник», сгибал дугой и с одного бока приминал. Получалась булка в виде замка. Разъезжая по Москве, Барон не раз видел, как такие же калачи, только выпеченные из явно более дешевой серой муки, ели прямо на ходу, на улице, возчики, держа его за дужку грязной рукавицей, а потом эту дужку скармливали лошади.
Герберштейн писал, помнится, что у русских не растет виноград, и нет своего вина. В германских и австрийских землях до Тридцатилетней войны винограда и вина было вдоволь. Средоточием винной торговли был Ульм. На Ульмский рынок нередко съезжалось до трехсот подвод с вином, и в начале XVII века там часто в один день продавалось до 800 бочек вина. Однако одновременно с улучшением и ростом виноделия совершенствовалась подделка вин. Можно было подслащивать кислые сорта вина, но это было еще терпимо. Хуже, когда вину подмешивали фруктовый муст, то есть сусло, оставшееся от производства яблочного сидра. Несмотря на многочисленные запретные меры, остановить подделки было очень трудно.
* * *
К числу преимуществ западного образа жизни можно было, при желании, отнести распространение в Европе табака, находившегося под запретом в России. Употребление курительного табака было занесено в Германию из Нидерландов солдатами императора Карла V, а употребление нюхательного табака — испанскими солдатами во время Тридцатилетней войны. Вообще употребление табака распространялось чрезвычайно быстро. Ему приписывались необыкновенные целительные свойства. В одном «Травнике» 1656 года говорилось:
«Табак производит чихание и сон, очищает горло и голову, уничтожает боль, прогоняет усталость, успокаивает зубную боль, предохраняет от моровой язвы, уничтожает вшей, исцеляет воспаление, чирей, ушибы, раны».
Вместе с тем духовенство и высшие власти боролись против курителей табака, в проповедях обличались «нечестивые, которые превращали свои уста в дымовую трубу сатаны».
В Берне в 1661 году был издан указ, по которому вводилась новая заповедь: «не кури».
Ко времени Барона старинные представления о романтической и платонической рыцарской любви к недоступным прекрасным дамам отошли в прошлое. Да были ли даже в старину такими чистыми, как представлялись? Во всяком случае, в Австрии до сих пор помнили стихи великого миннезингера, Вальтера фон дер Фогельвейде о земной, не платонической, любви и горечи утренней разлуки:
Под липами на лугу,
Где мы вдвоем отдыхали,
Можно найти сорванные цветы и траву,
Близ леса в долине Тандарадей
Тихо пел соловей.
Я пришла на луга, где уже был мой милый.
Он меня встретил.
Святая Дева! Как я счастлива.
Он целовал меня тысячу раз.
Тандарадей, смотрите, как покраснели у меня губы.
Он сделал так прекрасно постель из цветов.
Многие посмеялись бы от души,
Проходя по той же дороге.
Они увидели бы, что на розах
Тандарадей лежала моя голова.
Как мы там лежали… если б кто-нибудь узнал,
Сохрани Господи, мне было бы стыдно.
Что он со мной делал, никто того не знал,
Только он да я, да маленькая птичка
Тандарадей, она уж верно не разболтает.
Многие иностранцы с интересом и часто с насмешкой описывали русские свадьбы. Во времена Барона пышные средневековые свадебные обряды стали более простыми, но многое еще сохранялось.
Свадьбы могли продолжаться по целым неделям. Под вечер первого свадебного дня богато украшенная невеста отводилась в брачную комнату родителями или опекунами, дружкой и шафером. Ее сопровождали все свадебные гости. Невесту раздевали и отдавали ожидавшему ее жениху. В присутствии всего общества они всходили на брачное ложе, которое стояло посередине комнаты на возвышении. Как только одно одеяло накрывало чету, брак считался законным образом свершившимся. В тех семьях, которые придерживались современных взглядов, новобрачным разрешалось ложиться в постель совершенно одетыми.
Когда брак заключался между правителями государств и с иноземными принцессами, церемония нередко проходила через представителей государя. Например, когда последний рыцарь, император Священной Римской империи Максимилиан I выступал доверенным лицом своего внука при заключении брака с двенадцатилетней дочерью чешского и венгерского короля Владислава II Ягелло Анной, возлежание происходило так, писал австриец Яков Унрест: