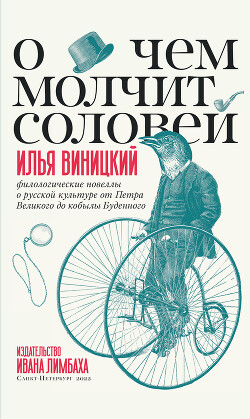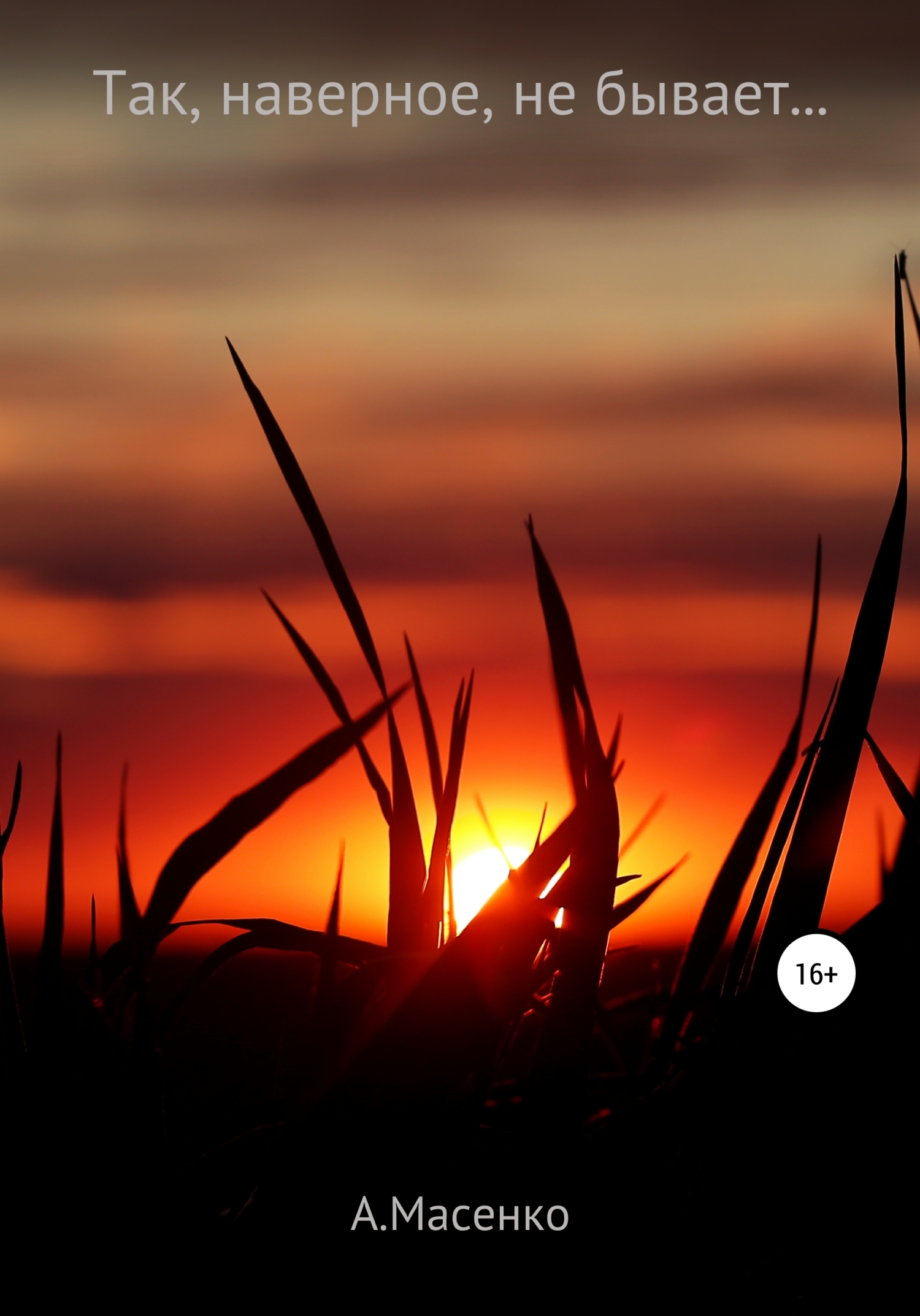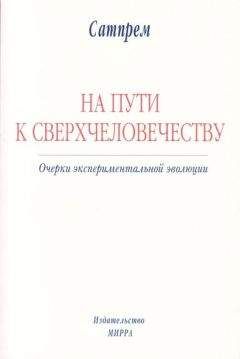сижу я в кресле точно граф
а за спиною книжный шкаф
торчат оттуда корешки
писак несмытые грешки
и слышен гул и слышен зык
раздвоенный и узкий
из шкафа тянется язык
бескостный косный русский
меня он слижет невзначай
включая кресло, тапки, чай.
язык! язык! во дни сомнений
сожмися до местоимений
вернись в шкафы за корешки
стань дырбулстыд моей тоски
мой рот банкрот
но все же вот
сияет солнце александра
из затонувшего скафандра.
Виктор Щебень. Баллада о языке
Улыбнись, моя краса,
На мою балладу;
В ней большие чудеса,
Очень мало складу.
В. А. Жуковский. Светлана
Горький год.
От автора
Надоели мне, брат, все человеческие слова... все наши слова — надоели! Каждое из них слышал я... наверное, тысячу раз...
<...> Сделай так, чтоб работа была мне приятна — я, может быть, буду работать... да! Может быть! Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство!
А. М. Горький. На дне
По секрету: я давно хотел найти способ пройти между Сциллой привычного для меня жанра академической статьи с ее узкой специализацией, тяжеловесным научным аппаратом и серьезным и глубокомысленным тоном («как мы знаем», «курсив наш», «мы никак не можем согласиться с мнением», «выражаем глубокую признательность за ценные советы и замечания», «см., ср., вар.» и др.) и Харибдой беллетризированной импровизации на научную тему, ни к чему не обязывающей и часто недружественной по отношению к так называемому профессиональному сообществу («ведь на самом деле „Мастер и Маргарита“ [„Братья Карамазовы“, Библия или „Книга о вкусной и здоровой пище“] не о том, о чем писали эти „старомозгие“, а вот о чем» или «и тут я понял, о чем эта чистая деревенская девочка с голубыми глазами, стоящая на пороге моей трехкомнатной квартиры, хотела меня спросить. И я ей ответил: «Да! Пушкин написал „Царя Никиту“! Но он потом раскаялся...»).
Возможность проскользнуть между двумя этими (знаю, что преувеличенными, но я говорю о себе) крайностями возникла случайно, и предлагаемая вниманию читателей книжка — результат этой счастливой (как мне кажется) случайности.
Два с лишним года тому назад, вместо того чтобы закончить исследование, над которым я давно работал, я вдруг начал писать в качестве вечерней гуманитарной гимнастики небольшие статьи-заметки о произведениях и авторах, которые мне были всегда интересны или вдруг взволновали приунывший было ум. Заметки эти строились как похожие на детективы маленькие новеллы (я в том году «подсел» на детективные сериалы, среди которых мне больше всего нравились старые британские и новые скандинавские, особенно те, в которых дело раскрывалось в пределах одного 50-минутного эпизода) и как-то отражали мое пан(ико)демическое настроение (то мне было страшно, то грустно, то весело). До традиционных научных статей они не дотягивали размером и выбивались из привычного мне филологического ряда несерьезным тоном, какой-то (впрочем, понятной в условиях самоизоляции) непоседливостью воображения и быстрой сменой тем и декораций. Да мне и не хотелось их посылать в научные журналы и дорабатывать с учетом мнений анонимных экспертов и постоянно усложняющихся стандартов.
Одну из таких заметок-новелл я предложил культурно-просветительскому интернет-изданию «Горький», которое когда-то взяло у меня интервью и напечатало его с замечательной иронической иллюстрацией.
Редактор мою новеллу одобрил, но попросил убрать (а) научные термины, (б) ученые сноски, (в) библиографию (тот самый аппарат), (г) эпиграфы, а также (д) еще сильнее ужать тексты. «Что же я получу за эти сугубые жертвы?» — спросил я. «Хорошие иллюстрации, гиперссылки, позволяющие нырять в контексты, затронутые в Вашем материале, и — гораздо больше читателей». Я согласился. И не пожалел. (Судя по счетчику на сайте «Горького», самым востребованным материалом оказалась новелла о птичке, пойманной юным Александром Сергеевичем Пушкиным.)
Позднее к напечатанным за два с лишним года в «Горьком» заметкам с картинками я добавил несколько близких по жанру текстов, опубликованных в других (ненаучных или снисходительных к игре научных) изданиях. Собрав все в один файл, я понял, что выходит своего рода cерия филологических новелл с детективными сюжетами и что у нее даже есть общая если не идея, то эмоция: как, черт возьми, весело придумывать и решать научные задачки, не боясь ошибиться и не думая о том, что мизантропический коллега огреет тебя критическим кирпичом за допущенную неточность в датировке, упущенную литературу или выпущенную на волю недостаточно аргументированную гипотезу (лучше, конечно, не допускать, не упускать и не выпускать, но уж если вылетело...).
Тогда я спросил моего редактора: а нельзя ли эти иллюстрированные заметки, рассыпанные по интернету, выпустить в виде печатной книжки с иллюстрациями, эпиграфами и умеренной библиографией? Мой редактор предложением заинтересовался и обратился к знакомому издателю. Дело, однако, затянулось, а нынешние жуткие события вообще поставили его под вопрос «зачем?» — самый страшный из всех проклятых вопросов того воображаемого сообщества, которое принято называть русской интеллигенцией. Ответить на него я не могу. Только вспоминаю слова Гоголя: «Затем, что так было надо». И пушкинские: «…затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона». А еще честертоновского отца Брауна (кажется): «Бог знает больше дьявола. Но не афиширует этого».
Читатель, читай! Автору было весело разгадывать литературные загадки и ему очень хочется передать свою филологическую радость тебе. Особенно в нынешнем холодном климате.
P. S. Выражаю искреннюю признательность за доверие и советы моему редактору Дмитрию Иванову, а также моим друзьям, коллегам и родственникам.
ФИЛОТЕРАПИЯ, или Третий бастион Самюэля Пиквика
(маленький манифест) [1]
Jucunda confabulatio, sales, joci, приятные беседы, шутки, парадоксы, веселые истории, melliti verborum globuli, как утверждают Петроний, Плиний, Спонданус, Целий и многие другие великие авторы, являются тайным снадобьем от горести, упоминающимся у Гомера, чашей Елены или поясом Венеры, которые издавна славились способностью изгонять печали и заботы и вызывать веселье и радость в сердце, когда они правильно поняты или применены своевременно.
Роберт Бертон. Анатомия Меланхолии (1621)
«Долой миланколию!» — как сказал малыш, когда померла его училка.
Чарльз Диккенс. Посмертные записки Пиквикского клуба… (1837) Выставка
Работа у нас книжная, кабинетная, вязкая, трудоемкая и мыслетленная, но чреватая неожиданными радостями, особенно ценными в наше печальное время. Один знаменитый ученый патетически назвал наше дело службой понимания. Может быть, так оно и было. В моем случае и в нашу пору это скорее служба преодоления квартирного (и культурного) одиночества. Да вы и сами это наверняка понимаете.
После почти двухлетнего сидения на одном месте (причем в широком, равно как и узком значении этого выражения), повергнувшего меня в самые печальные чувствования, я наконец отправился в давно задуманное и несколько раз перенесенное путешествие в туманную Англию. Последняя встретила меня мелким холодным и долгим дождиком, в очередной раз подтвердившим начальные слова из заученного еще в школьные советские годы и взбудоражившего мое тогдашнее воображение экзаменационного «топика»: «The British climate is mild and damp» (правда, на этот раз он был больше «damp», нежели «mild»).