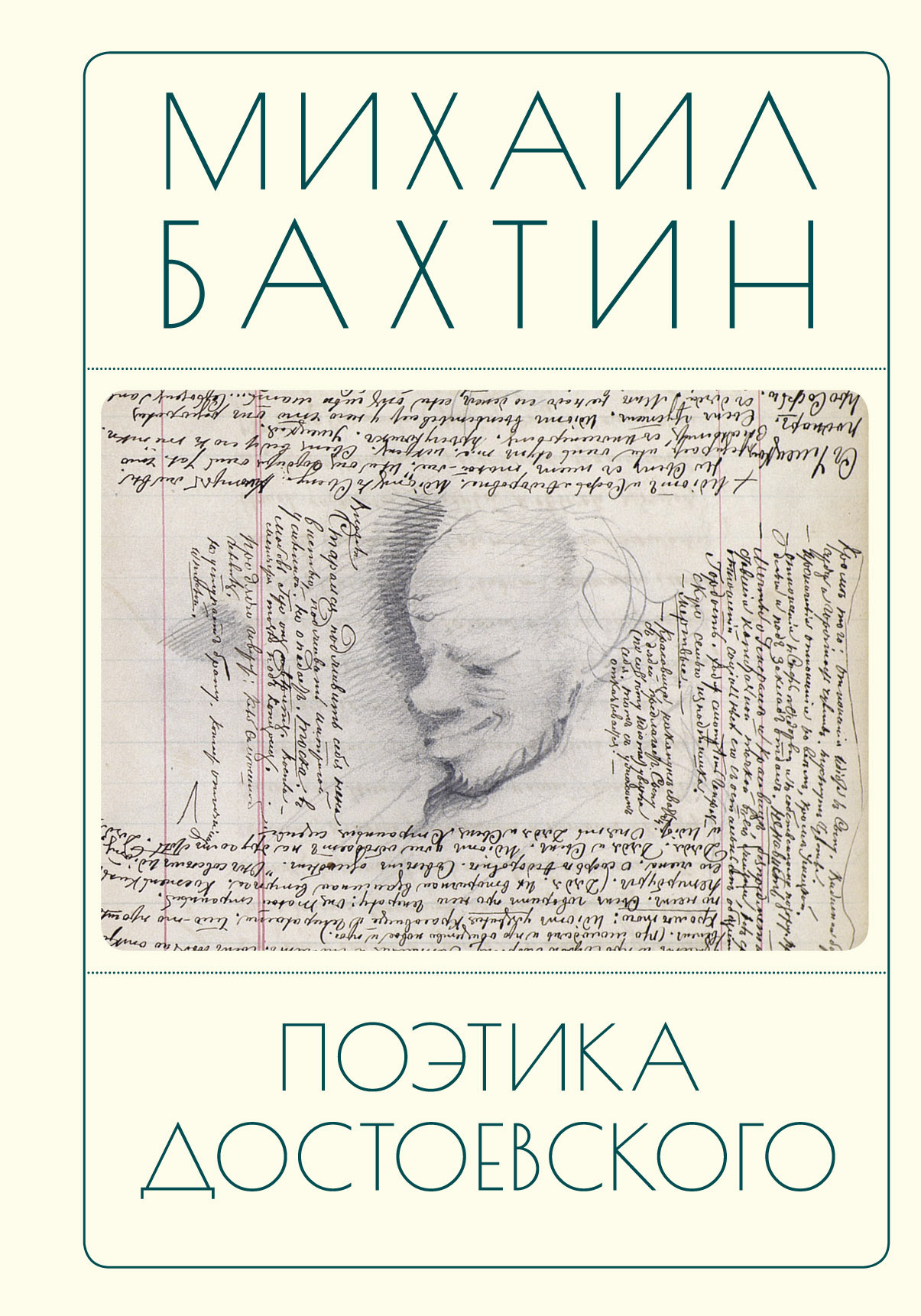укладов, таких систем сознания, которые раньше совсем не приходили друг с другом в соприкосновение» (с. 411).
А. В. Луначарский, по нашему мнению, прав в том отношении, что какие-то элементы, зачатки, зародыши полифонии в драмах Шекспира можно обнаружить. Шекспир наряду с Рабле, Сервантесом, Гриммельсхаузеном и другими принадлежит к той линии развития европейской литературы, в которой вызревали зародыши полифонии и завершителем которой – в этом отношении – стал Достоевский. Но говорить о вполне сформировавшейся и нецеленаправленной полифоничности шекспировских драм, по нашему мнению, никак нельзя по следующим соображениям.
Во-первых, драма по природе своей чужда подлинной полифонии; драма может быть многопланной, но не может быть многомирной, она допускает только одну, а не несколько систем отсчета.
Во-вторых, если и можно говорить о множественности полноценных голосов, то лишь в применении ко всему творчеству. Шекспира, а не к отдельным драмам; в каждой драме, в сущности, только один полноценный голос героя, полифония же предполагает множественность полноценных голосов в пределах одного произведения, так как только при этом условии возможны полифонические принципы построения целого.
В-третьих, голоса у Шекспира не являются точками зрения на мир в той степени, как у Достоевского; шекспировские герои не идеологи в полном смысле этого слова.
Можно говорить об элементах полифонии и у Бальзака, но только об элементах. Бальзак стоит в той же линии развития европейского романа, что и Достоевский, и является одним из его прямых и непосредственных предшественников. На моменты общности у Бальзака и Достоевского неоднократно указывалось (особенно хорошо и полно у Л. Гроссмана), и к этому нет надобности возвращаться. Но Бальзак не преодолевает объектности своих героев и монологической завершенности своего мира.
По нашему убеждению, только Достоевский может быть признан создателем подлинной полифонии.
Главное внимание уделяет А. В. Луначарский вопросам выяснения социально-исторических причин многоголосности Достоевского.
Соглашаясь с Каусом, Луначарский глубже раскрывает исключительно острую противоречивость эпохи Достоевского, эпохи молодого русского капитализма, и, далее, раскрывает противоречивость, раздвоенность социальной личности самого Достоевского, его колебания между революционным материалистическим социализмом и консервативным (охранительным) религиозным мировоззрением, колебания, которые так и не привели его к окончательному решению. Приводим итоговые выводы историко-генетического анализа Луначарского.
«Лишь внутренняя расщепленность сознания Достоевского, рядом с расщепленностью молодого русского капиталистического общества, привела его к потребности вновь и вновь заслушивать процесс социалистического начала и действительности, причем автор создавал для этих процессов самые неблагоприятные по отношению к материалистическому социализму условия» (с. 427).
И несколько дальше:
«А та неслыханная свобода "голосов" в полифонии Достоевского, которая поражает читателя, является как раз результатом того, что, в сущности, власть Достоевского над вызванными им духами ограничена…
Если Достоевский хозяин у себя как писатель, то хозяин ли он у себя как человек?
Нет, Достоевский не хозяин у себя как человек, и распад его личности, ее расщепленность – то, что он хотел бы верить в то, что настоящей веры ему не внушает, и хотел бы опровергнуть то, что постоянно вновь внушает ему сомнения, – это и делает его субъективно приспособленным быть мучительным и нужным отразите-лем смятения своей эпохи» (с. 428).
Этот, данный Луначарским, генетический анализ полифонии Достоевского, безусловно, глубок и, поскольку он остается в рамках историко-генетического анализа, не вызывает серьезных сомнений. Но сомнения начинаются там, где из этого анализа делаются прямые и непосредственные выводы о художественной ценности и исторической прогрессивности (в художественном отношении) созданного Достоевским нового типа полифонического романа. Исключительно резкие противоречия раннего русского капитализма и раздвоенность Достоевского как социальной личности, его личная неспособность принять определенное идеологическое решение, сами по себе взятые, являются чем-то отрицательным и исторически преходящим, но они оказались оптимальными условиями для создания полифонического романа, «той неслыханной свободы "голосов" в полифонии Достоевского», которая, безусловно, является шагом вперед в развитии русского и европейского романа. И эпоха с ее конкретными противоречиями, и биологическая и социальная личность Достоевского с ее эпилепсией и идеологической раздвоенностью давно ушли в прошлое, но новый структурный принцип полифонии, открытый в этих условиях, сохраняет и сохранит свое художественное значение в совершенно иных условиях последующих эпох. Великие открытия человеческого гения возможны лишь в определенных условиях определенных эпох, но они никогда не умирают и не обесцениваются вместе с эпохами, их породившими.
Неправильных выводов об отмирании полифонического романа Луначарский из своего генетического анализа прямо не делает. Но последние слова его статьи могут дать повод к такому истолкованию. Вот эти слова:
«Достоевский ни у нас, ни на Западе еще не умер потому, что не умер капитализм и тем менее умерли его пережитки… Отсюда важность рассмотрения всех проблем трагической "достоевщины"» (с. 429).
Нам кажется, что формулировку эту нельзя признать удачной. Открытие полифонического романа, сделанное Достоевским, переживет капитализм.
«Достоевщину», на борьбу с которой, следуя в этом Горькому, справедливо призывает Луначарский, никак нельзя, конечно, отождествлять с полифонией. «Достоевщина» – это реакционная, чисто монологическая выжимка из полифонии Достоевского. Она всегда замыкается в пределах одного сознания, копается в нем, создает культ раздвоенности изолирован ной личности. Главное же в полифонии Достоевского именно в том, что совершается между разными сознаниями, то есть их взаимодействие и взаимозависимость.
Учиться нужно не у Раскольникова и не у Сони, не у Ивана Карамазова и не у Зосимы, отрывая их голоса от полифонического целого романов (и уже тем самым искажая их), – учиться нужно у самого Достоевского, как творца полифонического романа.
В своем историко-генетическом анализе А. В. Луначарский раскрывает только противоречия эпохи Достоевского и его собственную раздвоенность. Но для того, чтобы эти содержательные факторы перешли в новую форму художественного видения, породили новую структуру полифонического романа, необходима была еще длительная подготовка общеэстетических и литературных традиций. Новые формы художественного видения подготовляются медленно, веками, эпоха создает только оптимальные условия для окончательного вызревания и реализации новой формы. Раскрыть этот процесс художественной подготовки полифонического романа – задача исторической поэтики. Поэтику нельзя, конечно, отрывать от социально-исторических анализов, но ее нельзя и растворять в них.
В последующие два десятилетия, то есть в 30-е и 40-е годы, проблемы поэтики Достоевского отступили на задний план перед другими важными задачами изучения его творчества. Продолжалась текстологическая работа, имели место ценные публикации черновиков и записных книжек к отдельным романам Достоевского, продолжалась работа над четырехтомным собранием его писем, изучалась творческая история отдельных романов [53]. Но специальных теоретических работ по поэтике Достоевского, которые представляли бы интерес с точки зрения нашего тезиса (полифонический роман), в этот период не появлялось.
С этой точки зрения известного внимания заслуживают некоторые наблюдения В. Кирпотина в его небольшой работе «Ф. М. Достоевский».
В противоположность очень многим исследователям, видящим во всех произведениях Достоевского одну-единственную душу –