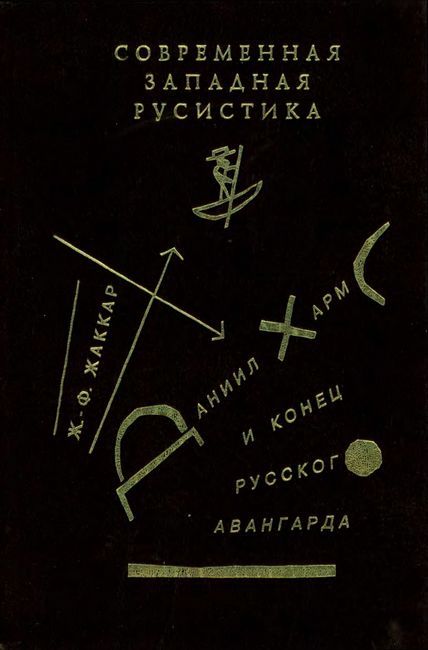class="p1">Однако Фауст — заурядный колдун, власть не дана ему свыше, как он ошибочно утверждает; вот почему, когда он бросается в реку, которая должна была бы проявить «текучесть», это не помогает ему. Она становится для него лишь вульгарным «шнурком». И поскольку она является метафорой не только «текучего» мира, но и языка, якобы способного выражать этот мир, отношения слов к означаемым ими явлениям и далее — отношения субъекта к окружающему его миру абсолютно фальшивы:
я в речку кидаюсь
но речка шнурок
за сердце хватаюсь
а сердце творог
я в лампу смотрюся
но в лампе гордон
я ветра боюся
но ветер картон [249].
Лишь одна Маргарита способна привести Фауста в восторг, но и она — всего только призрак:
Но ты Маргарита и призрак и сон [250].
Маргарита возникает как сознание Фауста. Она привлекает его внимание к присутствию божественного. Так появляется этот «столик беленький летит» [251] — метафора чистого письма или этот ангел, бросающий взгляд на их комнату и пробующий печенье. Маргарита просит защитить ее от нападок дьявола — спрятать в высокий шкаф: традиционная метафора искусства у Хармса [252]. Дьявол ужасен, ведь он не знает текучести: в его распоряжении «вода железная» [253], и он пользуется ею как оружием. В конце поэмы Маргарита указывает и на значение времени, напоминая Фаусту, что время течет, что смерть приближается, а вместе с ней умрет и сочинительство:
мы умрем, потухнут перья [254].
Сосед Фауста, «жилец одинокой судьбы» [255], который «гладит кончик бороды» [256] и шарит, производя странные звуки, «как будто таракан глотает гвоздь» [257], этот сосед, строящий козни, — дьявол, пытающийся помешать текучести, сковав воду в стаканах:
и ногтем сволочь задевает
стаканы полные воды [258].
Утверждение Маргариты безжалостно: над ними — ангелы, а еще выше — архангелы, «воскресающие из воды», и опять вода — очищающая, несущая в себе вечность; только они одни способны «садить Божие сады», где бродят «светлые начала», но туда не могут добраться проклятые души:
над высокими домами
между звезд и между трав
ходят ангелы над нами
морды сонные задрав
выше стройны и велики
воскресая из воды
лишь архангелы владыки
садят Божие сады
там у Божьего причала
(их понять не в силах мы)
бродят светлые Начала
бестелесны и немы [259].
Апостолы произносят реплику, связанную по смыслу со словами Маргариты: над «спутами» есть только «одни Господства», «Господни Силы», «Господни Власти», соответственно связанные с мудростью, формами и временем. И далее:
радуйтеся православные
языка люди [260].
Язык, связывающий землю с небом, четко обозначен в следующих стихах, подобных молитвам: это вмешательство Бога на заумном языке, соединяющем славянские и древнееврейские звуки языка:
Куф куф куф
Престол гелинеф
Херуф небо и земля
Сераф славы твоея [261].
«Лоб в огне и живот в грязи» [262], Фауст запевает длинную песнь-жалобу, подчеркнутую следующим рефреном:
летом жир
зимою хлод
в полдень чирки
кур кир кар [263].
В вычеркнутых вариантах этих стихов властвуют страх и смерть — «летом страх», «ночью крах», «под утро смерть» [264]. Мы как бы присутствуем при поражении Фауста, что еще раз подчеркивает его слишком слабая заумь — «кур кир кар». Сосланный в некий ад, где «стонут братья/с тех сторон» [265], он осознает неудачу своего метода:
я пропал
среди наук
я комар
а ты паук [266].
Из следующего далее диалога с апостолами, в который опять вмешиваются писатели, он узнаёт, что его невозможно понять («кто поймет меня?») [267].
Конец диалога чрезвычайно интересен. Фауст спрашивает у писателя:
где кувшин — вина сосуд? [268]
И слышит в ответ:
в этом маленьком сосуде
есть и проза и стихи
но никто нас не осудит
мы и скромны и тихи [269].
Далее писатели отвечают на комплименты Фауста, которые он произносит после чтения их стихов:
Ах бросьте
это слов бессмысленные кучи [270].
На что Фауст соглашается:
ну правда
есть в них и вода [271].
Из этих реплик явственно следует, что жидкость — метафора письма и что алкоголю Фауста-алхимика противопоставлена вода «бессмысленного». Действительно, когда писатели восклицают, что их стихи не что иное, как «груда слов, лишенных смыслов», Фауст льстит им, говоря, что в них вода — категория, негативная для него, в то время как в системе его ценностей положительной категорией всегда являются «смыслы». Более того, он приобщает их к огню — противнику воды, что вполне соответствует его инфернальному характеру [272]. Он говорит:
Слова сложились как дрова
в них смыслы ходят как огонь [273].
Из этих строк мы узнаём, что смыслы (= огонь) — разрушители слов (= дрова). Итак, писатели направляют пьесу в русло зауми:
мы писали сочиняли
рифмовали кормовали
пермадули гармадели
фонфари погигири
магафори и трясли [274].
Начиная реплику с глагола «писать», уводя ее впоследствии к зауми и заканчивая глаголом «трясти», писатели определяют, таким образом, свою роль, заключающуюся в битве со смыслами. Вот в этом-то и заключается месть писателей (отсюда и название), утверждающих провал Фауста, произносящего в своей последней реплике несколько стихов на зауми и покидающего это поле действия, оставляя его им:
Руа рео
кио лау
кони фиу
пеу боу
мыс мыс мыс
вам это лучше известно [275].
Тема воды встречается в стихотворении 1931 года, посвященном Н. Олейникову, «Вода и Хню» [276]. Диалог начинается такими стихами:
Хню
Куда, куда спешишь ты, вода?
Вода