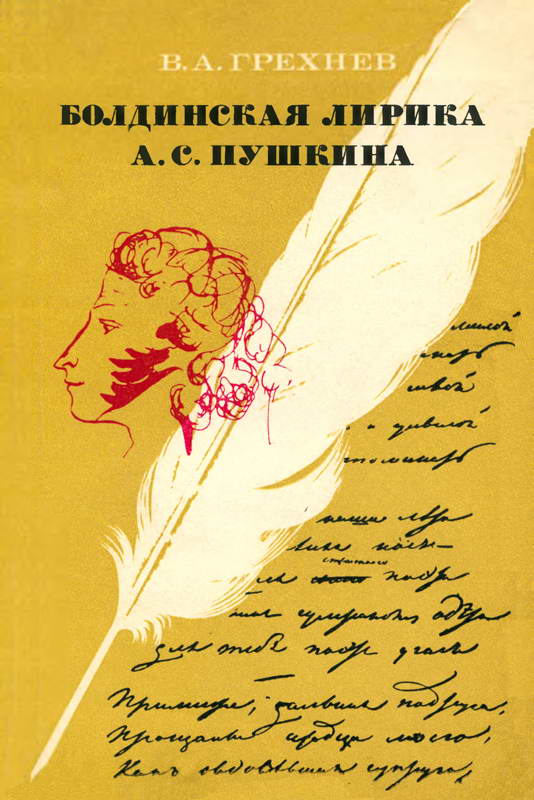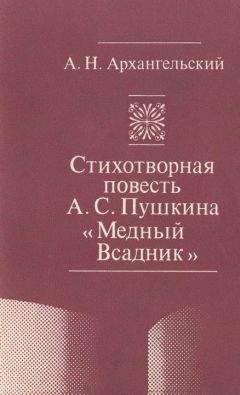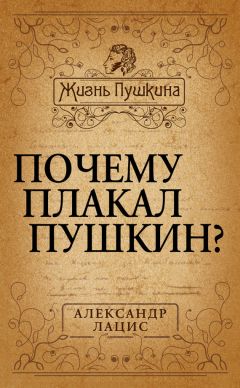идеалом. Ведь идеал в представлении Баратынского романтически абсолютен, а духовные сущности, попавшие под аналитический скальпель его художественной мысли, обнаруживают в себе пугающую двойственность. К тому же аналитик Баратынский, как правило, останавливается на пороге синтеза, не пытаясь переступить этот порог. Его останавливает на этой черте, разумеется, вовсе не ограниченность его мышления, а просто склад его поэтического дарования.
Пушкинские же оценки предполагают своего рода взаимное «высвечивание» духовных полярностей, в итоге которого каждое противоборствующее начало, раскрываясь в своей двойственности, выявляет и глубоко скрытые в нем проблески (но, конечно, не более, чем проблески и возможности) идеала. Процесс постижения идеала для Пушкина немыслим вне восстановления подлинной глубины и противоречивости, скрытой в явлениях душевной жизни. И следовательно, это бесконечный процесс. Вот почему понятие осуществленной «гармонии» у Пушкина применимо лишь к искусству и, быть может, лишь к бесконечно отдаленной цели человеческого совершенствования, но никак не к эмпирической, текучей реальности. Не случайно слово это возникает в поэзии Пушкина в окружении атрибутов творчества. В размежевании искусства как гармонически организованной реальности и насквозь противоречивого потока жизни сказывается величайшая реалистическая трезвость пушкинского мышления. Подобное размежевание ничуть не ущемляет права действительности, ибо в нем отсутствует однозначно-ценностный критерий: реальность не отвергается во имя идеалов искусства, как нечто низменное, искусство не возносится над реальностью и не подменяет ее. Пушкин не разрывает и не абсолютизирует эти меры. Он только признает за ними действительно присущую им автономию, предостерегающую от их отождествления.
Пушкин прекрасно понимал, что подмена действительности творческой мечтой, подмена, претворенная в принцип жизнеощущения и жизнестроительства, чревата трагедиями. Самоослепление художника, возомнившего, что искусством и только искусством могут быть исчерпаны связи человека с миром, воплощено в Сальери. Беда Сальери совсем не в том, что ремесло поставил он «подножием искусству» и алгеброй «поверил гармонию». Напрасно этим признаниям придают смысл, всецело компрометирующий Пушкинского героя. Ведь ясно из контекста его монолога, что здесь речь идет лишь о «первых шагах» композитора, об азбуке творчества, постигнув которую Сальери «вкусил восторг и слезы вдохновенья» и высокие муки недовольства собой, кстати обличающие в нем недюжинного художника. Беда Сальери — в преизбытке жреческой страсти, очертившей свой мир единым и замкнутым кругом «музыки», в том, что, отвергнув жизнь, бурлящую за порогом искусства, усмотрев в ней одну лишь «несносную рану», Сальери отсек у творчества питающие его артерии и сам воздвигнул тот роковой предел, выше которого ему не дано подняться. По типу своего жизнеощущения (а не по складу эстетических пристрастий, ссылка на которые не может служить решающим аргументом в оценке психологической сущности художественного характера) Сальери вовсе не классик, как полагали Б. Я. Бухштаб и Г. А. Гуковский, а скорее уж романтик. В нем воплощена романтическая, по существу, перенапряженность художнического сознания и готовность броситься в искусство как в спасение от преследований грубой и прозаической действительности — черты, соприродные психологии романтизма, по крайней мере тех его ответвлений (Жуковский, русские любомудры), с которыми резко разошелся художественный путь Пушкина в конце 20-х годов.
Во втором монологе Сальери есть слова, которые, перекликаясь с авторской исповедью «Элегии», отчетливо раскрывают зону недоступности, отделяющую духовную позицию персонажа от пушкинского виденья мира. И там и здесь размышления о духовных опорах, скрашивающих человеческое существование, имеют одну и ту же точку исхода — мысль о смерти. «Жажда смерти» мучает Сальери и только надежда на «незапные дары» жизни способна удержать его от самоуничтожения:
Как жажда смерти мучила меня, Что умирать? я мнил: быть может, жизнь Мне принесет незапные дары; Быть может, посетит меня восторг И творческая ночь, и вдохновенье; Быть может, новый Гайден сотворит Великое — и наслажуся им…
И для Пушкина дары творчества, его восторги и муки — один из величайших соблазнов жизни. Но если для Сальери — это единственная нить, связующая его аскетическое сознание с «привычками бытия», то для Пушкина это лишь звено в цепи ценностей, соединяющей мир творчества со стихиями жизни. А замыкает эту цепь в «Элегии» «прощальная» улыбка любви — символ полноты и богатства «живой жизни», в самих противоречиях которой скрыт источник жизнестойкости человеческого духа. С другой стороны, перекличка упомянутых строк из монолога Сальери с пушкинской «Элегией» лишний раз убеждает нас в том, что даже в сумрачном образе этого трагического персонажа заключены крупицы пушкинского духовного опыта начала 30-х годов, только крупицы эти, естественно, переплавлены в объективной целостности созданного характера.
В болдинской лирике Пушкина нет произведения, в котором бы воплотилось «последнее», завершающее слово авторских размышлений о жизни. И «Элегия» в этом смысле — не исключение. Она неповторима по лаконичности поэтической структуры, столь всеобъемлюще охватывающей противоречия человеческого бытия. Она неповторима и по диалектической прозорливости мышления, которое пробивается к духовным ценностям через реальные сложности жизни, не отсекая эти сложности во имя идеальной, но безжизненной схемы. И однако ж впечатления окончательно сложившейся и устойчивой (устойчивой хотя бы к конкретному, болдинскому циклу духовного развития поэта) картины мира она не дает.
Уже у романтиков лирическая поэзия все очевиднее становится выразительницей индивидуально-неповторимого, личностного сознания и ее образный мир все шире вбирает в себя энергию текучего и противоречивого душевного мгновения. Оно исключает незыблемую и жестко закрепленную точку зрения на мир. Отдельное лирическое переживание как фрагмент душевной жизни поэта отныне лишь относительно и неполно может претендовать на воплощение «отстоявшейся» целостности лирического жизнеотношения. И все-таки даже в истории романтической поэзии можно встретить произведения, в которых частный момент духа осмысляется в свете некоего жизненного итога, в свете «замыкающей» истины. Конечно, она может быть скорректирована (иногда опровергнута) в процессе развития мироощущения поэта, относительность ее может быть выявлена общим контекстом творчества. Так это и случилось, например, с демоническим циклом Пушкина 23-го года, со стихотворением «Три ключа». Но как бы то ни было, всегда важно учитывать эту установку лирического слова: какова степень его притязаний на воплощение «завершающей» истины. Поэтическая идея «Трех ключей», например, выражена Пушкиным как незыблемая и абсолютная трагическая «формула» человеческой жизни. Не случайно из композиции этого произведения исключено едва ли не все, что напоминало бы о присутствии лирического субъекта. Слово о мире звучит здесь как слово извечной правды, правды «родового», сверхиндивидуального порядка. Можно бы обратиться за примерами и