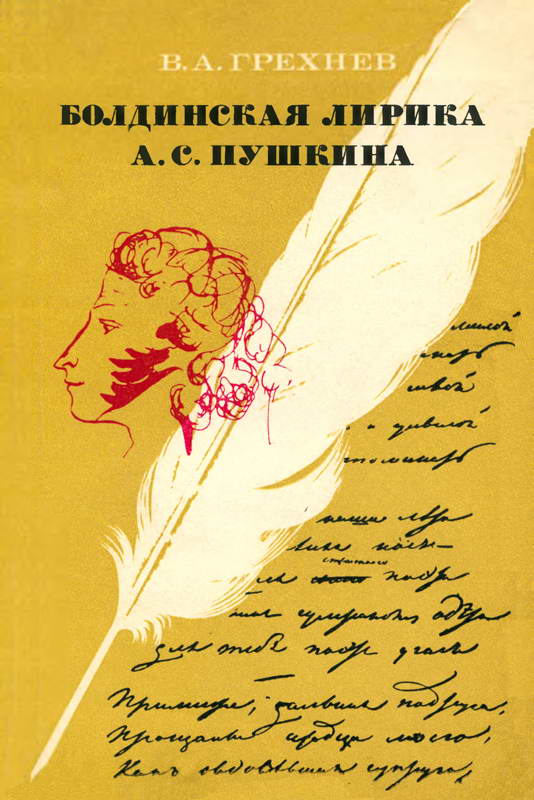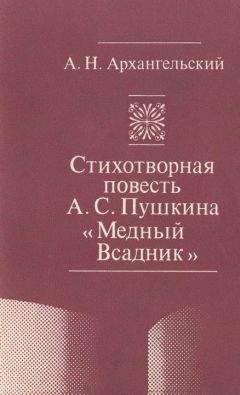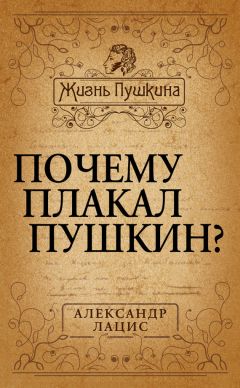полноту и объемность поэтического значения старые элегические «формулы» в лирике болдинской поры.
По логике темы, сосредоточенной на переломном этапе творчества Пушкина, в анализе его стиля мы пытались особенно оттенить все, что связано с отходом от традиции, с поэтической дерзостью пушкинской мысли. Но нужно ли говорить, что Пушкину ничто так не было чуждо, как эстетический нигилизм, пренебрежение традицией. В самом отталкивании от нее он никогда не стремился сделать последний шаг, за которым начинается полный разрыв с художественным опытом прошлого. Поэтому важно осознать не только смысл пушкинской перестройки жанрового материала, важно понять и мотивы его обильного подключения в поэтическую ткань болдинских стихотворений. Нимало не ослабляя впечатления резкой индивидуальности лирических конфликтов «прощального» цикла, их новой внежанровой природы, элегическое слово создает здесь неповторимый колорит минувшего. Старые ассоциации, притаившиеся в нем, приглушенные в новом контексте, но не оттесненные в нем до конца, «работают», если можно так выразиться, на лирическую экспрессию воспоминания. Образ минувшего с его романтическими бурями предстает в соприродном ему стилевом преломлении. Другое дело, что ни экспрессией минувшего, ни его элегическим колоритом ни в малой степени не исчерпывается в «прощальном» цикле вся полнота пушкинской мысли, и уже тем более истоки ее напряжения. Они, эти истоки (как мы пытались показать), — в столкновении романтически максимальных притязаний на вечную неувядаемость любви с трезвым и ясным, хотя и причиняющим жгучую боль, ощущением охлаждающей реки времени. А этот поворот конфликта, психологическая глубина его воплощения и сложное сплетение эмоций в единстве лирического переживания, существование в нем подводного течения, не сразу прорывающегося в слово, и самый «рисунок слова», раскованно скользящего то в биографическую конкретность, то в быт, то в стихию чужой речи, нацеленного на диалогический контакт с «собеседником», — все это неизмеримо далеко от жанровых принципов элегии.
В то же время картина болдинской лирики высвечивает неравномерность жанровых процессов в поэзии Пушкина. Отказ от жанрового мышления в лирике не исключает стабилизации отдельных жанров, обладавших нерушимой определенностью предметной сферы, ограниченных в своих контактах с миром современного сознания. Такова пушкинская «анфологическая эпиграмма», таков и вообще антологический жанр, удержавшийся в потоке русской лирики послепушкинской поры, перешагнувший за порог середины века (антологии А. Майкова, Н. Щербины, А. Фета).
Болдинская лирика Пушкина, как уже говорилось, устремлена в даль его собственного поэтического развития в 30-е годы. Здесь рождаются темы и первые наброски образов, которым будет суждена дальнейшая жизнь. Образ творческого упоения гармонией в сочетании с «прощальною улыбкою» любви («Элегия») как будто уже предугадывает картину идеального бытия поэта в обители «трудов и чистых нег», запечатленную в стихотворении 1834 года «Пора, мой друг, пора». От «анфологических эпиграмм» Пушкина тянется нить к его более поздним «подражаниям древним». Библейские ассоциации, время от времени возникающие в болдинской лирике, на последнем этапе пушкинского творчества развернутся в лирических композициях 1836 года («Мирская власть», «Подражание итальянскому». «Отцы пустынники и жены непорочны») с их сумрачным, тревожным лиризмом и смелыми выходами в современность («Мирская власть»). Но, пожалуй, особенно гулким и многозначительным эхом отзовется в поздней лирике Пушкина мечта о бегстве от людей, воплощенная в стихотворении «Когда порой воспоминанье». Здесь исход целой вереницы пушкинских образов, странников, беглецов, гонимых («Гонимый роком самовластья», «Не дай мне бог сойти с ума», «Пора, мой друг, пора», «Странник», «Напрасно я бегу к сионским высотам»), которая внятно и тревожно перекликается с ходом пушкинской судьбы в 30-е годы. Во всяком случае здесь звенит какая-то очень личная и очень важная струна позднего пушкинского жизнеощущения. Недаром же Гоголь писал о пушкинском «Страннике» как о произведении, в котором «звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния». Раскрыть образную ткань и резонанс этих стихотворений еще предстоит пушкинистике.
Оглавление
Глава I Вечное и современное в болдинском творчестве Пушкина … 3
Глава II Философская лирика болдинской осени … 21
Глава III «Анфологические эпиграммы» … 83
Глава IV Прощальный цикл … 101
Глава V «Ювеналов бич» … 142
Вместо заключения … 152