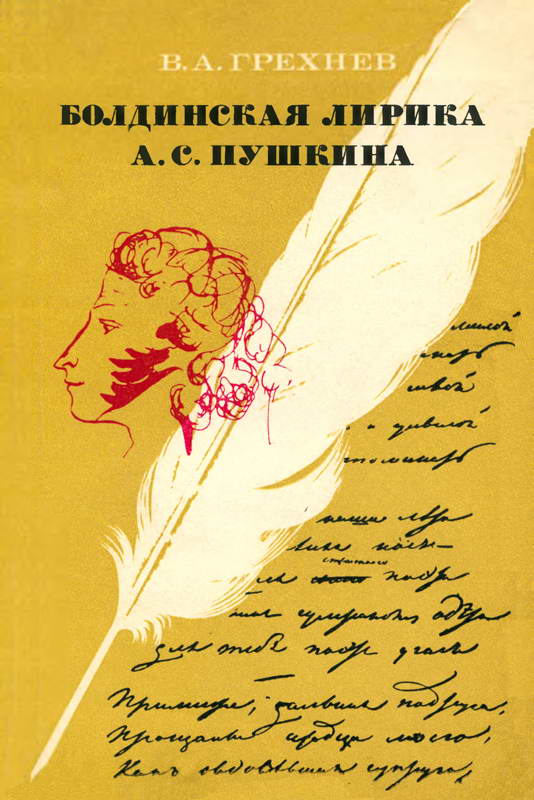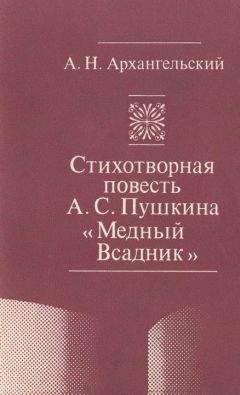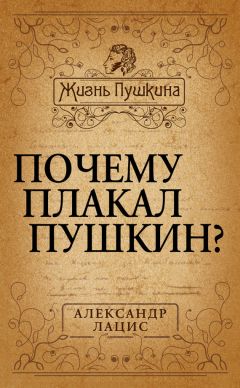ударов было немыслимо. Вторую эпиграмму на Булгарина Пушкину удалось напечатать без подписи в альманахе «Денница» за 1831 год. Напоминающий эффект этой эпиграммы, ее родство с предыдущей создается уже очевидной однотипностью в построении стиховой фразы: «Не то беда… беда, что…» Вторая строка как бы свертывает в себе тот разворот художественных образов, который в первой эпиграмме был призван подчеркнуть безродность Булгарина. «Не русский барин» — не просто напоминание о польском происхождении Булгарина, которое само по себе не заключает ничего предосудительного: ведь «Костюшко лях, Мицкевич лях». Речь идет именно о духовной безродности врага. А это уже серьезно, это означает, что Булгарину отказано в праве судить о судьбах русской нации и русской литературы.
Вторая пушкинская эпиграмма при всем своем явном и сознательно подчеркнутом сходстве с первой — отнюдь не вариация ее. Пушкин не только сгустил краски, чтобы усилить мощь сатирического изображения. Он привнес в сатирический портрет врага новые штрихи. Третья строка эпиграммы — «Что на Парнасе ты цыган» намекает на литературные кражи Булгарина, не стеснявшегося издавать под своей подписью чужие сочинения. Пушкин был убежден, что Булгарин, сочиняя свой роман «Дмитрий Самозванец», позволил себе беззастенчивые заимствования из «Бориса Годунова», к тому времени еще не напечатанного и известного лишь в литературных кругах. Обвинение это разделялось и другими литераторами, близкими к Пушкину, так что в конце концов Булгарин вынужден был прибегнуть к публичному объяснению. Нужно ли говорить, что эпиграмма на Булгарина — акт гражданского мужества поэта. Публично высечь доносчика, заклеймив его убийственным прозвищем Видока, означало так или иначе пролить свет и на «деятельность» третьего отделения «его императорского величества тайной канцелярии». За спиной Булгарина стояла грозная и зловещая сила, бесцеремонно вмешивавшаяся в дела литературы. И вот теперь сношения с этой силой публично расценились как верх человеческого падения и позора.
Враги поэта в болдинской лирике многолики. И обличение их, как уже говорилось, выливается в разные формы. В «Ответе анониму» Пушкин великолепно «раскрыл» потребительскую психологию «толпы», глубоко равнодушной к личности поэта, безучастно взирающей на его беды и муки.
Смешон, участия кто требует у света! Холодная толпа взирает на поэта, Как на заезжего фигляра: если он Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон, И выстраданный стих, пронзительно-унылый, Ударит по сердцам с неведомою силой, — Она в ладони бьет и хвалит, иль порой Неблагосклонною кивает головой. Постигнет ли певца внезапное волненье, Утрата скорбная, изгнанье, заточенье, — «Тем лучше, — говорят любители искусств, — Тем лучше! Наберет он новых дум и чувств И нам их передаст». Но счастие поэта Меж ими не найдет сердечного привета, Когда боязненно безмолвствует оно… . . . . . . . . . . . . . .
В гневе поэта здесь слышится «сердечный тяжкий стон», в суровой иронии — глубокая тоска.
Враждебные силы, окружающие поэта, образуют в болдинской лирике своеобразную систему образных сфер, последовательность которых (не хронологическая, а эстетическая) предполагает укрупнение художественного объекта, возрастающий размах обобщения: от конкретной личности российского Видока к обобщенному образу «света» — «толпы» и, наконец, к полемически заостренному изображению уродства и скудости русской действительности в целом («Румяный критик мой…»). Гениальный пушкинский шедевр «Румяный критик мой…» — крупнейшая веха в становлении реалистического стиля в лирике. Действительность в этом стихотворении полемически депоэтизирована: с нее сознательно сняты наслоения поэтической лжи. Далеко не случайно в структуру этого произведения введена идеологическая и художественная позиция («румяный критик» с его отношением к поэзии и реальности), разошедшаяся с истиной действительности. Позиция эта опровергнута не с помощью полемических аргументов, а одним лишь указанием на жестокую правду реальности. Прием знакомый. К нему не однажды обращалась просветительская проза путешествий: не только Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву», но и С. К. фон Ферельцт с его «Путешествием критики». Просветительская и антикрепостническая литературная традиция прибегала в подобных случаях к помощи экспрессивно-сгущенного жизненного материала. Иллюзорность и слепота поэзии и вообще «тьма предрассуждений» опровергались описанием произвола и ужасов крепостного права. Сохраняя пафос острейшей социальной критики, Пушкин дает обыденно-повседневный «разрез» действительности. В «Румяном критике» даже смерть ребенка и деловитая поспешность похорон — не отступление от нормы, а сама норма. Этому бытовому и страшному в своей обыденности течению жизни соответствует и относительно уравновешенное течение стиховой речи. Речь эта, разумеется, очень далека от спокойствия, но горечь и тоска и трагическая ирония ее ушли вглубь. Они обузданы установкой на трезвую остроту виденья действительности, ее реальных очертаний и пропорций. Время от времени авторская эмоция дает о себе знать в поворотах поэтической интонации, в печальной ироничности пушкинских вопросов: «Где нивы светлые? где темные леса? Где речка?..», или в щемящей грусти лирического повтора:
Два бедных деревца стоят в отраду взора, Два только деревца…
Экспрессия пушкинского стиха проступает в предметной динамике образа. Пушкин изображает природу и русскую деревню, скованными мертвящим дыханием осени. Жизнь словно бы на последней грани, на последнем усилии:
Где речка? На дворе у низкого забора Два бедных деревца стоят в отраду взора, Два только деревца. И то из них одно Дождливой осенью совсем обнажено, И листья на другом, размокнув и желтея, Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея.
От последних, на глазах угасающих признаков жизни к нарастающим приметам омертвения — таково направление, в котором движется пушкинский образ и такова основа, на которой крепится его экспрессия. Что это действительно так, что семантика вымирания, надвигающейся смерти организует систему образных связей в композиции «Румяного критика» подтверждается характерным поворотом пушкинской мысли. Вслед за изображением полуобнаженного дерева, готового стряхнуть листву под первым же дуновением ветра, возникает многозначительная деталь — «И только. На дворе живой собаки нет».