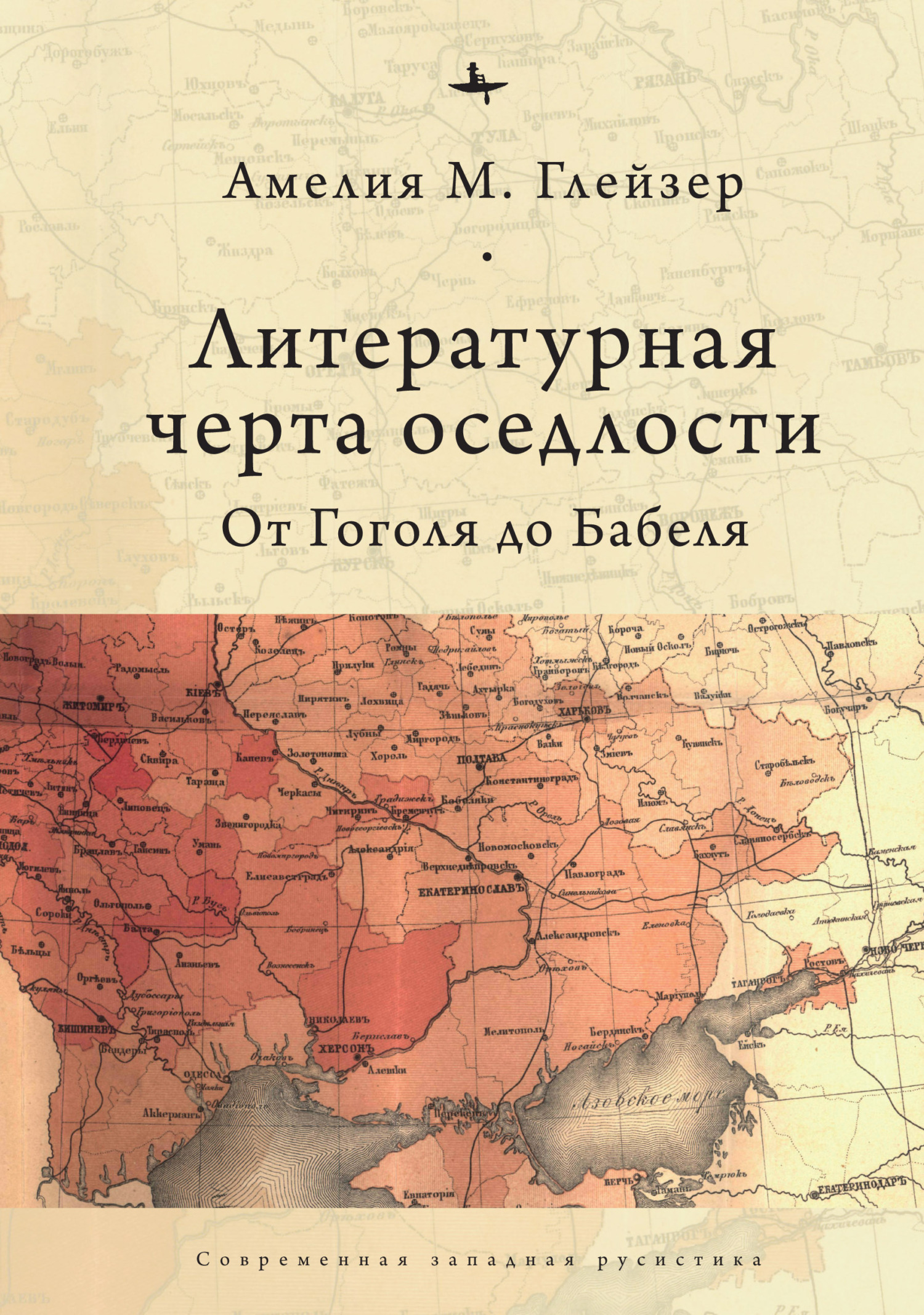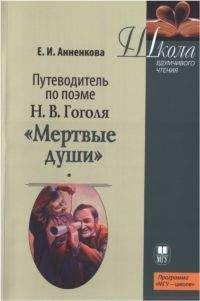платья до самых сапогов, с по-именованием, как это все называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиян; равным образом названия платья, носимого нашими крестьянскими девками, до последней ленты [Гоголь 1937–1952,1: 501–502; 10: 141].
Кулиш отмечает, что гоголевские описания свадьбы полны вопиющих неточностей [Кулиш 1861: 79]. Некоторые украинские критики полагают, что Гоголя не слишком заботила украинская культура как таковая; И. Сенько утверждает, что культурные реалии у Гоголя носят аллегорический характер: «Автор “Вечеров на хуторе близ Диканьки” мог рассказать про распад традиционного уклада украинской жизни [суспільного життя в Україні] только с помощью эзопова языка, исторических аллюзий и красноречивых хронотопов» [Сенько 2002:16]. Если бы Гоголь последовал указаниям из писем матери, он мог бы исправить многие ошибки, допущенные им в «Сорочинской ярмарке», вставив, например, в описание свадьбы такие детали, как «дружки», «коровай» и «дівич-вечір» [108]. Эти недочеты, скорее всего, объясняются тем, что Гоголь написал соответствующие куски текста еще до получения писем от матери и не захотел вносить в них изменения [Karpuk 1997:231]. То, что Гоголь со спокойной душой игнорировал информацию, полученную от матери, означает, что его в большей степени заботило использование в своей поэтике сложившихся архетипов, чем ознакомление читателей с подлинными культурными реалиями Украины [109].
Прибегая к гротеску, Гоголь рассказывает притчи, смысл которых выходит далеко за рамки украинского быта: например, в них можно найти рассуждения и о переменчивости толпы, и о скоротечности жизни. Конечно, национальные и общефилософские мотивы не исключают друг друга, и в гоголевских текстах всегда есть два пласта – злободневный и вечный. Украинские слова, вкрапленные в русский текст, маркируют украинскую идентичность персонажа. Словарь украинских понятий в конце «Вечеров…» подчеркивает национальность рассказчика этого цикла и проводит границу между ним и русскими читателями книги. Кулиш в эпилоге к своему роману «Черная рада» восхищается многообразным языком Гоголя, отмечая, что «Пушкин владел еще не всеми сокровищами русского языка». Именно Гоголь привнес нечто новое в петербургскую литературную среду, потому что «у Гоголя послышалось русскому уху что-то родное и как бы позабытое от времен детства; что вновь открылся на земле русской источник слова, из которого наши северные писатели давно уже перестали черпать» [Куліш 1969:483]. Пушкин же в своей рецензии на «Вечера…», написанной в 1831 году, сравнивал Гоголя с Мольером и Филдингом и хвалил его язык, предположив при этом, что не все критики разделят его мнение: «Ради бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на неприличие его выражений, на дурной тон и проч.» [Пушкин 1977–1979,7:180]. Белинский в статье «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке» передает следующие слова одного из покупателей: «Но воля ваша, а такие слова, как: свинтус, скотовод, подлец, фетюк, чорт знает, нагадить и тому подобные, такие слова видеть в печати как-то странно» [Белинский 1949: 200] [110]. Андрей Белый в своей книге о Гоголе, написанной в начале XX века, замечает: «Галлицизмы, полонизмы, украинизмы можно бы собрать в мухоловки: они, как мухи, жужжат из текста» [Белый 1969: 281]. Действительно, по всем гоголевским текстами разбросаны украинские слова, относящиеся к еде, – например, буряк (свекла) или кавун (арбуз); рынку – перекупка (торговка), пивкопы (25 копеек) или часто используемое добре (хорошо); иногда встречаются и целые предложения на украинском [111]. Смешанный лексикон Гоголя и описываемые им украинские реалии – настоящие и выдуманные – создали причудливую мозаику, некоторые части который были подлинными, а некоторые – очаровательными подделками. То, что в итоге получилось, является не описанием Украины как таковой, а метафорой, передающей недолговечность якобы не затронутого цивилизацией традиционного уклада. Гоголь показывает читателям легко узнаваемую пасторальную идиллию, в которую проникают разрушающие ее внешние силы. Одной из главных особенностей Сорочинской ярмарки является то, что она представляет собой открытое со всех сторон непрочное пространство, легко впускающее в себя чужаков.
События, описанные в «Сорочинской ярмарке», происходят всего за несколько десятилетий до создания этой повести. Однако поскольку рассказчик извлекает воспоминания из глубин своей памяти, то история разверчивается где-то между прозаичным настоящим и идеализированным прошлым: «Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа тысячу восемьсот… восемьсот… Да, лет тридцать будет назад тому, когда дорога, верст за десять до местечка Сорочинец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку» [Гоголь 1937–1952, 1: 112].
В то время как в литературных кругах Петербурга все больше укрепляется мода на эпические поэмы, Гоголь, помещая действие своих написанных по-русски повестей в украинскую провинцию и используя в эпиграфах цитаты из написанных по-украински произведений своего отца и Котляревского, обозначает тем самым свою связь с иной культурной традицией [112]. Котляревский своей травестийной поэмой высмеивал запоздалые попытки создания русского эпоса, предпринимавшиеся в XVIII веке [113]. Согласно Бахтину, эпос, предметом которого является прошлое, разрушается при столкновении с комическим и живым настоящим: «Смех разрушил эпическую дистанцию; он стал свободно и фамильярно исследовать человека: выворачивать его наизнанку, разоблачать несоответствие между внешностью и нутром, между возможностью и ее реализацией» [Бахтин 1986: 422–423]. Находящиеся где-то на украинской периферии фольклорные Сорочинцы и соседние с ними села представляют собой своего рода противовес имперской столице [114]. Украина с ее претензией на историческое первородство, подкрепленной якобы сохранившейся в первозданном виде фольклорной традицией, предстает в виде подлинного славянского «центра», противопоставленного обращенному в сторону Запада Петербургу. В этой парадигме отношений между Великороссией и Украиной Сорочинская ярмарка выступает альтернативной столицей украинских провинций.
Сорочинцы и местность вокруг них могут быть реальными географическими объектами, но как коммерческий пейзаж они лишены какой-либо четкой структуры. Параска ходит с отцом «около возов с мукою и пшеницею», но «ей бы хотелось туда, где под полотняными ятками нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные, медные кресты и дукаты» [Гоголь 1937–1952, 1:116]. В обеих частях ярмарки находятся чрезвычайно ненадежные товары, которые легко спрятать и унести. Гоголевский рынок текуч и непостоянен благодаря вещам, которые на нем продаются. Хотя мука на одном конце ярмарки кардинально отличается от лент и украшений в другой ее части, все это предметы, вызывающие желание их потрогать, переложить, перелить, пересыпать. Скот перемещается в пространстве, но и множество неодушевленных предметов у Гоголя тоже (вспомните горы расписанных горшков, которые въезжают в Сорочинцы в начале повести). Ленты – это метонимическое изображение праздничной атмосферы ярмарки и женских желаний. В «Ночи перед Рождеством» Гоголь изображает женщин, которые пришли в церковь, нацепив на себя весь ассортимент рыночной лавки и таким образом проявляя свою страсть к материальным благам даже во время службы,