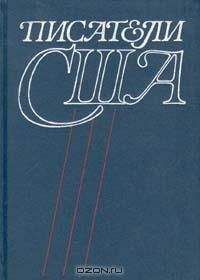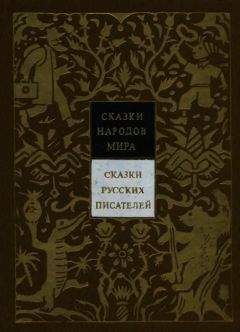что несет завтрашний день!
А пока вокруг нас шумит все та же жизнь, неизменная и низменная. Чикаго не платит рабочим, в Лондоне горсточка власть имущих не может столковаться относительно того, как лучше убивать друг друга, и коммунизм ослепляет своим ярким светом капитализм, в Нью-Йорке развращенные судьи сажают в тюрьмы людей менее преступных, чем они сами, католическая церковь ополчается на науку; словом, два десятка стран и с полдюжины континентов, набитых, как соты медом, пороками, ложью, обманом и наглостью всех видов и родов, и—маленькая кучка школьных философов и эстетов, требующих от нас, чтобы мы занимались шлифовкой аметистовых прилагательных и отображали в своих произведениях «декорум», а не грубые мысли!
Я лично подозреваю, что эта борьба за «декорум»—просто крошечная буря в очень маленьком, хотя и весьма изящном и нарядном чайнике. Леди и джентльмены от литературы, проповедующие этот крестовый походик, знают действительную жизнь весьма мало, и я боюсь, что у них на такое знание просто нет сил. Чай с вкусными сухариками—это да. «Любители молочных сухариков», как их остроумно назвал м-р Хэзлит в «Нейшнл», сладкоежки. К тому же, весьма обеспокоенные теми двадцатью— тридцатью годами бунта и недовольства, которые, кажется, начали наконец приводить у нас к чему-то реальному.
А ведь наша литература дала за последнее время немало интересного: взять хотя бы Норриса с его «Мактигом» или «Вэндовером», Дэвида Грэма Филлипса с его «Сусанной Ленокс», Шервуда Андерсона с его «Уайнсбургом, Огайо», Мастерса с его «Антологией Спун-ривер», Синклера Льюиса—с «Главной улиЦей» и «Бэббитом», Дос Пассоса и многих других. И у всех, решительно у всех, отсутствует тот знаменитый «декорум», который «для гуманиста—превыше всего» (слова профессора Ирвинга Бэббита), и нет «воли к припеву» (его же слова). Словом, ни один не вылощен, не изыскан, не напевен и вообще не такой, каким его хотели бы видеть «гуманисты». Наоборот, эти писатели по большей части грубы, не отшлифованы, чересчур прямолинейны и примитивны, то есть очень похожи на самую жизнь.
Что по таланту им далеко до Вийона, Марло, Рабле, Шекспира, Свифта, Стриндберга, Горького, Стендаля, Уитмена, Достоевского—факт, конечно, печальный, так ведь с этим никто и не спорит. Тут уж ничего не поделаешь—требуется врожденная гениальность. Но если бы даже они оказались людьми сверхталант-ливыми, все ныне пишущие и выступающие «гуманисты» все равно предали бы их анафеме, ибо у них все-таки отсутствовал бы «декорум», столь необходимый для «гуманистов»; (О, Рабле, Свифт, Марло, Вийон!)
Впрочем, этот тупой и болтливый «гуманизм» совсем не новость. И, что хуже всего, появился он согласно законам смены, которые, по-видимому, присущи материи и энергии, действующим во времени и пространстве. Ибо если перечитать учебники по астрономии, химии и физике, то станет ясно, что ни в одной из областей жизни нашей неутомимой вселенной мы не найдем непрерывного прогресса. Куры несут яйца, но яйца превращаются в яичницу, живой скот—в бифштекс, деревья—в доски, доски— в дома.
Ничто не может продвигаться только в одном направлении, прямо вперед. Ко всему примешивается скука или вражда. Поэтому-то натурализм и уступает место «гуманизму», хотя бы на время (надеюсь, что это не просто несчастный случай), как некогда классицизм уступил место романтизму, романтизм— рационализму, рационализм—реализму, реализм—натурализму или «глупости», как выражаются «любители сухариков»; и вот опять выступает на сцену требование изысканности и утонченности, призыв к «припеву», к воздержанию от избытка реальности. Но разве натурализм, на который теперь так яростно нападают «гуманисты», эти исполнители танца теней,—разве натурализм победил в свое время без усилий и борьбы? Для этого достаточно прочесть любой труд, описывающий его историю. И разве он в будущем в том или ином виде не появится опять? Весьма опасаюсь, что да.
Вся жизнь—цепь изменений; в литературе и в искусстве непрерывно появляются течения, превозносящие то один метод, то другой. Вспомните только нашу собственную дорогую новоанглийскую школу с ее, трансцендентализмом и ее современницу и кузину—эпоху английского викторианства, особенно в средний период. Я уверен, что именно о них-то профессор Бэббит и его коллеги «гуманисты» и мечтают. Но по какой удивительной игре случая он носит фамилию «Бэббит»!..
В лучшем случае подобные споры и интеллектуальные бои служат приятным развлечением. Они безвредны, впрочем, только до тех пор, пока одна сторона не начнет слишком вяло или слишком энергично на чем-нибудь настаивать, ибо все — будь то определенный пищевой режим, философская система, форма правления или литературная теория—хорошо, пока не надоест или не превратится в трагедию.
Я лично уже несколько устал от штампованного натурализма, ныне ставшего в Америке общепринятым. Теперь всякий считает своим долгом плеваться, ругаться, кощунствовать и откровенно подчеркивать свои вкусы и пристрастия, следуя повадкам шестнадцатилетнего подростка, стоящего на углу улицы в маленьком провинциальном городке. Но слишком уж это плоско, слишком банально. Речь идет ведь о целой вселенной, а не о лондонской или чикагской грязной улице. И если натурализм является сейчас идеологией секты близоруких фанатиков, настаивающих главным образом на том, чтобы все людские отправления и отношения называть своими именами, то... это уже не натурализм Руссо, Стендаля, Фильдинга или Достоевского. Это, так сказать, «натуралисты», думающие превзойти великих мастеров подбором прилагательных, а не подлинным пониманием. В данном случае метод — если здесь можно говорить о методе—попал в руки неумелых и неумных людей.
А жизнь тем временем идет. И она открывается по-разному гуманисту и натуралисту. «Гуманист» бэббитовского толка видит ее, какой она, по его мнению, должна быть, а натуралист—какая она, по его мнению, есть. Первым из них интересуется одна часть мира, вторым—другая. Но что бы и тот и другой ни писали, жизнь идет своим путем, она содержит, содержала и будет содержать все свои основные, исконные элементы: все так же слабость будет противоположна силе, мрак—свету, зло—добру, безобразие—красоте, жестокость—нежности, мелочность — величию, ум—отсутствию ума, талант—бездарности.
И среди тех, кто созерцает жизнь, всегда будут такие, у кого не хватит силы смотреть—хотя бы только смотреть—на ее темные, грубые стороны, и такие, кто будет даже участвовать в некоторых ее наиболее болезненных и первобытных проявлениях.
Среди первых окажутся, конечно, гуманисты, моралисты, религиозники и все слишком чувствительные и трусливые души, предпочитающие грезы— реальности.
А среди вторых—натуралисты и реалисты, проклинаемые робкими душами, но стоящие всегда за более широкое понимание жизни, которое дало миру великие произведения искусства и которое—или я ничего не понимаю?—даст их еще не раз.
1930 г.