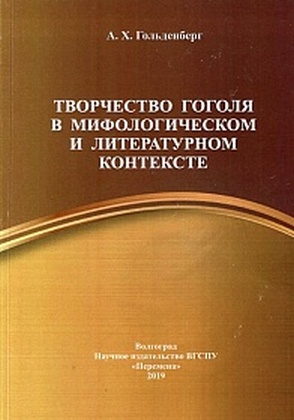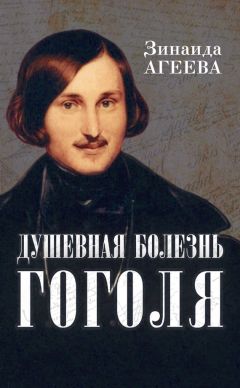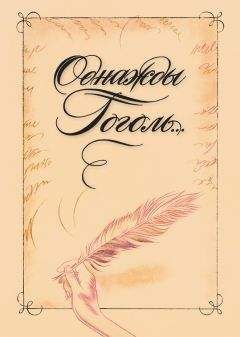[Там же: 22].
Для творчества Гоголя этот аспект народной обрядовой культуры оказался весьма значим. Уже в первом сборнике писателя одной из главных архетипических черт поведения и родового сознания героев становится ощущение живой непрекращающейся связи с предками, «дедами». Здесь торжествует не условное время сказки, а мифологическая концепция циклического времени, согласно которой души умерших предков возрождаются в их потомках. «А как впутается какой-нибудь родич, - говорит рассказчик “Пропавшей грамоты”, - дед или прадед - ну, тогда и рукой махни: <...> если не чудится, вот-вот сам все это делаешь, как будто залез в прадедовскую душу, или прадедовская душа шалит в тебе <.>» (I, 189).
Поколения предков и потомков, начиная с повести «Страшная месть», образуют иерархию, в которой, как заметил А.И. Иваницкий, «каждое поколение <.> карает (поглощает) нисходящее и карается (поглощается) предыдущим, отцовским» [Иваницкий 2001: 254]. В зрелых и поздних произведениях Гоголя это приводит к комическим гиперболам неразличимости отцов и детей. Так, в «Ревизоре» Добчинский по виду месячного младенца определяет, что тот «будет, как и отец, содержать трактир» (IV, 10), а дети вымышленного чиновника Замухрышкина в «Игроках» уже в пеленках, по предположению Утешительного, производят руками движения взяточника.
С другой стороны, мифопоэтическое сознание Гоголя проявляется у него в наделении своих героев чертами и свойствами животных. Они у Гоголя, по мысли А.И. Иваницкого, зачастую играют роль тотемных предков и могут поглотить своих «сыновей», вернув их в земляное чрево. Если в ранней прозе писателя их тотемная природа явлена открыто (например, птичий нос, баран и медведь в «Заколдованном месте», эхом отзывающиеся на любое слово героя и выступающие как его дочеловеческие «я»), то в последующих текстах Гоголя они принимают новые формы, воспроизводя основополагающие структуры мифологического понимания смерти, где последняя условна и означает «лишь возврат к исходному положению», ту же жизнь, «но в ином обличии» [Еремина 1978: 7]. Смерть для героев Гоголя может принять облик животного (серая кошечка в «Старосветских помещиках»), а зооморфные тропы в гоголевском стиле способны с метафорического уровня перейти в план реальности и оказать губительное воздействие на судьбы персонажей (имя гусака в «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»), либо оставаться на тонкой грани, отделяющей человеческий образ от его тотемного архетипа (звериные ипостаси чиновников в письме Хлестакова, зооморфные элементы в портретах персонажей «Мертвых душ» как манифестация их духовного оскудения).
В основе тотемизма лежало почитание родового первопредка. Культ предков, или манизм (от латинского manes - души умерших) долгое время рассматривался этнографами как одна из древнейших и самых распространенных форм первобытной религии. Приверженцы мани-стической теории не видели различий между покойными, относя их всех к общей категории предков. Однако отношения предков и потомков в традиционной народной культуре носят неоднозначный характер.
Одним из первых на это обратил внимание в статье «Древнерусский языческий культ “заложных” покойников» (1917) выдающийся исследователь славянской духовной культуры Д.К. Зеленин. Изучая народные представления о посмертном существовании человека, он указал на глубокие различия в отношениях к тем покойникам, которые умерли естественной смертью, и к тем, кто умер преждевременной или неестественной смертью (некрещеные дети, утопленники, погибшие от рук убийц или в результате несчастного случая, самоубийцы). Умершие «своей» смертью почитались как родители, предки, «не своей» именовались заложными покойниками, или мертвяками. Последние попадали в услужение нечистой силе и сами становились демоническими существами, опасными для живых людей [Зеленин 1999: 18-20] 1. Таким образом, умершие в народном сознании делились на чистых и нечистых. Подавляющее большинство демонологических персонажей славянского фольклора восходит, согласно современным исследованиям, к верованиям о «заложных», или «ходячих» покойниках [Виноградова 2000; Седакова 2004]. Эти представления нашли свое преломление на разных уровнях поэтики Гоголя и стали важной частью онтологии его творчества.
Характерной чертой поведения гоголевских персонажей является постоянное пересечение ими границы между миром живых и миром мертвых. В славянской народной культуре общение живых и мертвых было строго регламентировано [Толстая 2000: 14-20]. В его основе лежали мифологические представления о посмертной судьбе предков, души которых в определенные народным календарем дни почитают, приглашают в гости. Тех, кто явился в неурочное время, боятся, выпроваживают, стараются защититься от них. Былички и похоронные причитания отразили представления о том, что смерть человека наступает из-за того, что умерший родственник, явившийся до сорокового дня, забирает его к себе на «тот» свет [Черепанова 1996: 116]. В календарных обрядах у «предков» просили покровительства, в семейных (родильных, свадебных, похоронных) ведущую роль играла охранительная семантика. Новорожденный, невеста, умерший считались лими-нальными существами, которые должны были совершить «обряд перехода» (А. ван Геннеп 2), чтобы утвердиться в новом статусе человека, замужней женщины, покойного предка. Любые нарушения обрядового регламента были чреваты опасными последствиями для участников обряда и для всего родового коллектива.
1 Об ином, чем у Зеленина, толковании происхождения термина «заложные» как «забытые, не поминаемые» покойники см.: [Панченко 2013].
Особый статус имел в славянских обрядовых представлениях сирота. Он воспринимался как лицо ущербное не только социально, но и ритуально. Сирота был обделен, лишен своей доли и поэтому не мог участвовать в семейных обрядах, чтобы его обездоленность не распространилась на окружающих и на саму обрядовую ситуацию. Сирота не допускался к участию к свадебном обряде, а также в некоторых календарных обрядах, исполняемых ради плодородия и правильного течения жизни. Лишенный защиты и покровительства в мире земном, сирота мог обращаться за помощью к миру потустороннему. Он имел статус посредника между миром людей и «иным» миром [См.: Левкиевская 2002; Трофимов 1999].
Главные герои большинства повестей «Вечеров» наделены чертами сиротства или полусиротства. Вот почему столь проблематична для них ситуация брака. Грицько («Сорочинская ярмарка»), Петро («Вечер накануне Ивана Купала») - круглые сироты. Полусироты - Лев-ко («Майская ночь»), Вакула («Ночь перед Рождеством»), Катерина («Страшная месть»). И даже Иван Федорович Шпонька - сирота, находящийся под покровительством своей тетушки. Обратим внимание, что во всех этих произведениях, за исключением последней повести, где тема брака только намечена как возможность превращения «дытыны» в «мужа»), свадьба выступает в качестве ключевого сюжетного мотива. И совершается она при участии нечистой силы. Иными словами, сиротство персонажей наделяет эти свадьбы признаками «нечистоты», то есть превращает в антисвадьбы. Даже если свадьба сыграна по всем обрядовым правилам, как в «Вечере накануне Ивана Купала» или в «Страшной мести», она не приносит героям счастья. Вероятно, не случайно свадебная тема соединяется с мотивами смерти и скуки в финале «Сорочинской ярмарки» «при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушие могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком»» (I,