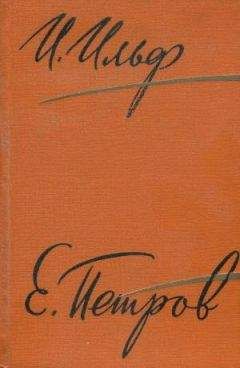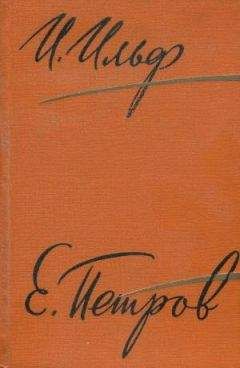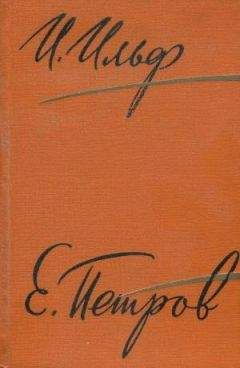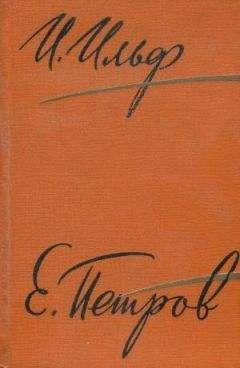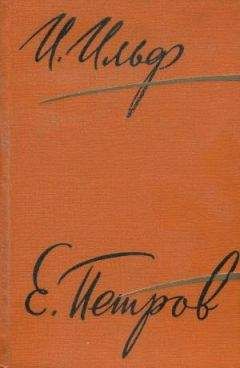балете Р.М. Глиэра «Красный мак» советский корабль приходит в китайский порт, местные контрреволюционеры готовят диверсию, однако заговор раскрывает просоветски настроенная артистка Тай-Хоа (Красный мак), разоблаченные жестоко мстят ей, умирающая Тай-Хоа призывает товарищей и единомышленников бороться за революцию и т. п. То есть игривое упоминание о «Красном маке» возвращает читателя к теме китайской революции и ко всему, что с ней связано.
Аналогично в главе «Автор Гаврилиады» репортер «Станка» Персицкий спрашивал литературного халтурщика Ляписа-Трубецкого, почему в ляписовском «стихотворении “Кантон” пеньюар — это бальное платье». Тоже вроде бы пеньюар не имеет никакого отношения ни к бальным платьям, ни к Кантону и специально о Китае ничего не сказано. Тем не менее мотив «шанхайского переворота» продолжает выполнять сигнальную функцию политического напоминания о борьбе с левой оппозицией.
Авторы убеждают читателя: некому в СССР всерьез бороться с этим режимом, потому силам «международного империализма» не на кого опереться. Бывшие дворяне стали совслужащими, бывшие купцы, ныне нэпманы, озабочены лишь своими доходами и, как прочие заговорщики-монархисты, патологически трусливы, опасности они все не представляют. «Новый социалистический быт сложился», это данность, «реставрация капитализма» невозможна в принципе.
Вывод сам собою напрашивался: в СССР нет питательной среды для «шпионской сети», шпионам, врагам внешним, даже если они и сумеют проникнуть в СССР, не на кого там опереться. Так, в главе «Землетрясение» великий комбинатор в очередной раз разыгрывает белоэмигранта-подпольщика: «Так вот, — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, — в двух словах. За нами следили уже два месяца, и, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться». Это — снова апелляция к центральной периодике: 5 июля 1927 года «Правда» опубликовала официальное сообщение о деятельности белоэмигрантских террористических организаций, подписанное председателем ОГПУ, а 6 июля — интервью с зампредседателя ОГПУ, рассказавшем о засадах на диверсантов, группами и поодиночке с боями прорывавшихся к границе, погибавших в перестрелках и т. п. Так что хотя «антишпионский» пафос не вполне согласовывался с недавними и позднейшими пропагандистскими установками, однако в конкретной ситуации — полемики с троцкистами — соответствовал правительственному «заказу».
Потому бесперспективными, нелепыми, наконец, просто смешными выглядят в романе бесконечные рассуждения о «международном положении». Чрезмерное внимание к внешней политике тоже стало в романе объектом насмешки — в главе «Дышите глубже: вы взволнованы!». На митинге в честь открытия первой в провинциальном Старгороде трамвайной линии все ораторы, словно не в силах избавиться от наваждения, говорят исключительно о враждебном окружении, происках Италии, Румынии и т. п., что явно не имеет отношения к проблемам транспорта. Тут Ильф и Петров используют, можно сказать, бухаринский образец. «Я, товарищи, детально останавливаться не буду на международном положении, — шутил Бухарин, выступая на Московской губернской конференции в ноябре 1927 года. — Я не иронически это говорю, хотя и знаю, что это может послужить поводом для того, чтобы наша оппозиция сказала: ну, вот, “национальная ограниченность”, потому что мало говорил о международном положении». В той же речи Бухарин возмущался «русским человеком»: «О международной революции он может сказать в течение секунды 4 раза, а в то же время не увидит, что он может сделать сравнительно второстепенную вещь и получит большой экономический и культурно-политический эффект» [99]. Аналогично и тяга к «ультрареволюционности» — в любой области. В прошлое — революционное или предреволюционное — вернуться нельзя.
Ильф и Петров покусились на еще более обязательное правило революционного дискурса — на сакральную обязательность цитат марксистских классиков и революционных вождей. Лингвист А.М. Селищев, примерно в то же время дерзнувший анализировать сходные явления, писал: «Распространение черт речи авторитетных деятелей революции — распространение в широкой революционной среде, роль одних и тех же лиц в период 19051906-го и в последующие годы, одинаковые социальные переживания — все это обусловливало одинаковость черт речи революционных деятелей 1905–1926 гг. Из индивидуальных воздействий отразилось сильное влияние особенностей речи В.И. Ленина, главным образом в эмоциональном отношении. <…> После революции 1917 г. языковые черты речи революционеров стали распространяться весьма интенсивно, проникая в широкие слои населения городского, фабрично-заводского и отчасти деревенского. Вместе с этим пережиты изменения в значении и в содержании тех или иных терминов» [100].
В «Двенадцати стульях» революционные цитаты планомерно приводятся в пародийно-сниженном виде. Разумеется, не в авторской речи, а в речи персонажа — Бендера, но ведь, как уже говорилось, великий комбинатор — в силу своей внесоветскости и приверженности к «комбинации цитат» — часто выступает как носитель авторской точки зрения.
Единственное исключение: в волжском городе Васюки висит лозунг «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих». Это явное обыгрывание знаменитого афоризма В.И. Ленина «Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих» («Проект и объяснение программы социал-демократической партии» 1895–1896 гг.; афоризм восходит к сочинению К. Маркса «Критика Готской программы»), демонстрируя невежественное обращение провинциалов с марксистским тезаурусом.
Марксистские пародии Бендера — иной природы.
В главе «Знойная женщина, мечта поэта» Бендер риторически вопрошает священника Вострикова: «Почем опиум для народа?» Отвлекаясь от тонких различий смысла между вариантами «опиум для народа» и «опиум народа», шутка великого комбинатора — точное повторение памфлетного определения религии, данного Марксом в работе «К критике гегелевской философии права» (1843) и Лениным в статье «Социализм и религия» (1905): «Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа». Бендер адекватно цитирует Маркса и Ленина, но в ситуации веселой перебранки.
В той же главе великий комбинатор, собираясь заняться стулом мадам Грицацуевой, формулирует свою задачу на актуальном языке эпохи: «Будем работать по-марксистски. Предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям». Цитата, действительно, марксистская, заимствована у соратника Маркса и Энгельса — А. Бебеля: «Предоставим небо птицам, а сами обратимся к земле». Но если немецкий социал-демократ (по-видимому, играя на евангельском тексте) формулировал генеральную материалистическую и практическую доминанту марксистского мировоззрения, то Бендер конкретизирует землю и материю, сводя все к единичному стулу.
В главе «Нечистая пара» Бендер, собираясь украсть стул, пока насельники парохода «Скрябин» заняты разыгрыванием тиражных билетов, радуется: «Электричество плюс детская невинность — полная гарантия добропорядочности фирмы». Лозунг Остапа явно воспроизводит хрестоматийную ленинскую фразу «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны…», произнесенную в речи «Наше внешнее и внутреннее положение и задачи партии» на Московской губернской партийной конференции 1920 года. Ленин развертывал перед коммунистами грандиозную перспективу индустриальной России, напротив, великий комбинатор пользуется индустриальными успехами (электрическим освещением) и расслабленностью сограждан для совершения кражи. Для сравнения вот — совершенно серьезное приноровление ленинской формулы Андреем Белым, планирующим в 1927 году лекцию о Блоке: «…схема: все творчество Блока, как теза, антитеза, синтез; а — мотто — девиз В.И. Ленина: “Октябрьская революция, электрификация” (теза, антитеза), “плюс”; и — равно: социализм (или